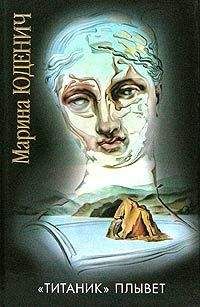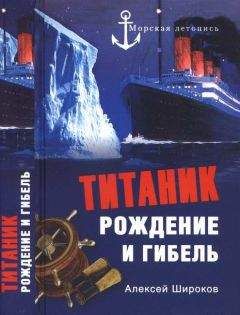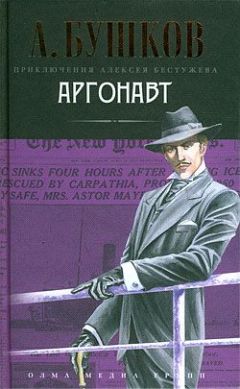Сергей Коровин - Прощание с телом
Колька содержался в моей комнате на втором этаже. Я отпер дверь и оказался в мутных от дыма сумерках. Окно было открыто, но жалюзи опущены. Под лампой, на краю постели, восседал сам профессор с открытой книгой, держа ее в вытянутой руке, и дальнозорко щурился на страницу.
— У-у-у, кто пришел! — промычал он. — Наконец-то мы заживем по-человечески. Пошли вниз, а то у меня ни льда, ни лимона — ни хрена! — И по секрету пожаловался: — Здесь вообще ничего нет, мне приходится писать на крышу! Вот, — Колька распахнул кимоно, — это все, что у меня осталось. Анна, надеюсь, вернулась?
Я сел рядом с ним и обнял его как брата.
— Потерпите, — сказал я ему, — потерпите еще немного. Аньки нет. Там жуткое пекло. Вам нельзя никуда выходить. Вас сегодня хотят зарезать.
Колька бросил в мою сторону высокомерный взгляд.
— Родной мой, я знаю! Я знаю! — горько воскликнул он. — Конечно, хотят! И тут ничего не попишешь: последний из могикан. — Колька оглядел темные углы и покатый потолок своего узилища. — Наверно, меня уже убили: я не могу ни спать, ни читать! Вот, — помахал он у меня перед носом «Справочником терапевта». — Это так скверно написано, так безыдейно! Кухонная логика! А девочка не разрешает мне принимать снотворное и выпивать не дает до ужина!
Мне стало искренне жаль его — потного и небритого, запертого в каморке три на четыре под горячей крышей наедине с дурными несостоятельными изданиями, мучающегося с похмелья, тем более что облегчить его страдания не было никакой возможности. Я даже почувствовал дурноту, будто это не он вчера натрескался с какими-то девками, а мы с моей птичкой ошиблись за ужином на добрую дюжину рюмочек, — похмелье, между прочим, заразная вещь.
— Ладно, — вздохнул я, — до вечера. Кстати, отдавайте кимоно, оно все равно вам тут без надобности. Вот вам моя майка и шорты.
Колька с непонятной поспешностью повиновался.
— Кофе, кофе… — напомнила старуха Кэт, когда я спустился на веранду. Она выдавила до дна пол-литровый френчпресс, сграбастала ключ, спрятала его у себя в сарафане и только после этого наполнила глиняные чашечки.
Я поймал ее недоуменный взгляд, который она бросила на мое кимоно. Что ж, откуда ей знать, что это я купил его себе в Сан-Франциско еще восемь лет назад. Тогда меня поразило его простое совершенство — оно кажется сереньким, однако присмотревшись, можно разглядеть черненькие свастики на спокойном молочном фоне, а материя — я даже не знаю, и по деньгам тоже непонятно — шелк это такой крученый, или хлопок, или что? — жутко дорогая, по моим масштабам, была штука, но не стану же я ей сейчас объяснять. Пусть думает, что хочет.
— Попробуем ввести в заблуждение просвещенное человечество, — сказал я и подмигнул Кэт. — Сжальтесь над мыслителем, снесите ему каких-нибудь капель, пока Анны нет. Да, и шепните ей, что в саду плаваю я, чтобы ее не хватила кондрашка. А так — тсс!
— А как же, — подмигнула мне Кэт в ответ. — Буду тебя прикрывать.
Я подхватил чашечку, вытянул из-под стопки каких-то лохмотьев знакомую синюю папку с Колькиными афоризмами и вышел на крыльцо.
С тех пор как я сидел здесь с кефиром, прошло две недели. За это время сад потерял последние цветы, теперь это была густая зеленая масса, из которой в разных местах торчали архитектурные объекты, вроде облезлой крыши и столбов трухлявой беседки, обломков оранжереи, кривой этажерки с мятой сигарой напорного бака, покосившегося столба электропередачи с вечным, неподвластым времени, фонарем. Я попробовал то, что мне набухала Кэт: там было, наверно, две ложки сахару, но сам кофе оказался настолько забористый, что от первого глотка у меня внутри уж все застучало и губы стали сухими. Впрочем, у меня на рыбалке — пока я не разверну снасти — тоже колотится; или, когда я вижу свою птичку, бегущую ко мне по кромке прибоя; или во время обгонов на трассе — это всего лишь адреналин. Как там сказала моя птичка: ты — старый рыбак, ты — хитер? И еще — про нож? Все сходится. Тогда много ли нужно хитрости, чтобы сообразить, где закидывать? Боже мой, это и коню понятно, конечно, там, где они хватали наживку уже два раза!
Я двинулся по дорожке, ведущей в глубину зарослей. Солнце теперь энергично пробивалось навстречу мне через соседские чахлые ели, и на контре было совсем не разглядеть, что там впереди. А там, несмотря на жару, чирикали и свистели невидимые пернатые песнопевцы, причем совершенно беспечно. С моим появлением у колодца они бросили свою возню и шумно вспорхнули на полузасохшую яблоню. Не знаю, кто это были — какие-то разноцветные воробьи. Из крана в зеленую емкость сначала потекла желтая вода, потом она стала прозрачной. Я достал со дна свою панаму, окурок сигары, несколько листьев, сполоснул ванну и заткнул дырку деревянной затычкой. На меня, может, оттого что нагибался, накатила новая волна дурноты — опять потемнело в глазах. Я сел на край и стал смотреть, как мутная поверхность камня, омытая водой, открывала свою затейливую структуру и становилась блестящей. Потом я сбросил кимоно, повесил его на сучок, нахлобучил отжатую панаму, скинул ботинки, трусы и кое-как погрузился в тепленькую купельку. Стало, конечно, немного полегче дышать, но охватила тревога. Боже мой, подумал я, что я здесь делаю? Мне захотелось немедленно бежать к себе, к моей маленькой птичке, в нашу постельку, чтобы она снова прижалась ко мне вся-вся-вся. Какое нам дело до этого Николая Васильевича Меркурьева и его жены? С такой обороной им не страшен даже налет боевиков! Ворота на замке, Колька в темнице, да его и хрен найдешь в этом сумасшедшем доме, а у самой Аньки за поясом пистолет — могу спорить, она с ним теперь не расстается и без колебания начнет налить в любого, кто покажется ей подозрительным, если он попробует приблизиться к ее обожаемому забулдыге! А птичка моя? Она одна там, совсем одна! Хрупкая, нежная, доверчивая дурочка. Не здесь надо быть мне, а с ней. Что, там ванны нет, что ли? Черт побери, почему мне так херово?
Я дотянулся и вытащил из шортов пачку и зажигалку. От первой сигареты паника понемногу утихла. Вообще-то, расссуждал теперь я, она же сама меня сюда послала. Это — раз. Во-вторых, она говорила, что все контролирует, значит, это — уверенность, основанная, скорее всего, на интуиции, а женская интуиция — это ого-го! Это сильная вещь! То есть мне нужно не дергаться тут, а выполнять задание. Как она сказала: иди и сделай так, чтобы мы к этой теме больше не возвращались? Так. Выходит, птичка моя мне доверяет как никому, она на меня надеется. И потом, она же не одна на горной вершине — там кругом люди, посторонних туда не пускают. Дверь закрыта, окно закрыто, а в форточку можно просунуть разве что глаз, или хуй. А что для нее хуй? Игрушка, потому что она — женщина!
И я потихоньку взял себя в руки. В Колькиной рукописи я наугад прочитал: «С поверхностью трудно работать, поэтому „созерцать“ мы ходим с лопатами — с методами, принципами, стратегиями и прочая, желая непременно заглянуть в глубину, и тем самым уничтожаем суть дела. Это все равно, как если бы мы задались вопросом, как выглядит закат, и в поисках ответа включили над головой солнце на полную катушку. В полдень день молчит о золотящихся вершинах сосен». Я опустил лист и увидел, что на поверхности воды отражаются верхушки сосен. Я прислушался и определил, что на веранде Кэт разговаривает с Анной. Потом из кухни раздалось бряканье крышек, потом прилетел запах разогреваемой жратвы. Мне-то, небось, не додумаются ничего предложить, с раздражением подумал я, хотя голода никакого не ощущал, просто стало неприятно от ее невнимания. Я бы, может быть, даже отказался, потому что моя птичка без меня никогда ничего не кушает. Она будет терпеть до тех пор, пока я не приду и не скажу ей: все, тема закрыта, я сделал этого грязного ублюдка, поехали ужинать.
Но что значит «сделать», мне конкретно не представлялось. Ну, во мне, худо-бедно, девяносто килограмм. Конечно, до Жирного мне далеко, но его-то застали врасплох, он был настолько спесив и самонадеян, и не мог вообразить, что у кого-то на него рука поднимется — на такого зайчика. И Борька тоже — полный пентюх. Я-то, надеюсь, не забуду, зачем ко мне приближается незнакомый человек, когда я лежу тут в ванне. Просто встану и задержу его, как карманника. Что мне какой-то нож? Что мне какое-то электричество? Подумаешь, мне немного нездоровится, я уже почти привык, и это даже хорошо — злее буду. Да и кто такой, в конце концов, этот Баффало Билл? Обычный задроченный идиот, убогий, который не может кончить по-человечески и спускает только, когда видит фонтан крови. У него духу не хватит выйти один на один, он наложит в штаны, когда я выскочу.
Я на всякий случай огляделся. Все вокруг было в косых лучах — черное и оранжевое, значит — уже не меньше девяти. Здесь неслышно никому не подкрасться: на дорожке цепляются кусты, на целине — трава по пояс. Главное — не уснуть до сумерек, а потом уже нечего бояться, он не полезет в темноте, он же ничего не увидит и не получит удовольствия…