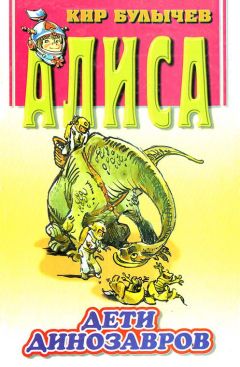Андрей Темников - Зверинец верхнего мира
– Монтигомо или Монтипайтон? – спросил Вениамин. Она ничего не поняла: какие когти, какие змеи? Капля вздрогнула, упала в песок, и в нем превратилась в рыхлую пуговицу, в подобие пупка. С великой рекой было покончено.
ЛОШАДКА ИЗ ВИННЫХ ПРОБОК
«Я умираю, – писала Соня, – без тебя я чувствую себя так, как будто из меня что-то вынули». Маленький доктор улыбнулся. Он только что растопыренной ладонью закрыл за собой матовую дверь палаты, внутри которой угасали темные стоны. Густая седая бровь, синевато-розовое лицо, жилка на безмятежном челе. Он притворно хмурится и кладет руку мне на плечо: «Жить будет. У нее просто истерика». С первой частью записки мы покончили. Вторая… Ведь мы и правда давненько не виделись, тут я тебе, девочка, пожалуй, поверю.
Санитар труповозки накрывает простыней серьезное лицо Горохова. Соня, когда я доставал твою записку из-за провода, ведущего к кнопке звонка, твою записку, мокрую от безутешных слез, которые с утра проливало июньское небо, меня ударило током. Пишу тебе это на носилках, так как под простыней еще светло… Нет, пожалуй, для оправдания это слишком витиевато. Мы скажем ей, что был дождь, такой сильный, кипящие лужи. А ты могла бы и позвонить. Вот еще! Панцирь маленького ому, телефон молчит.
«Я не из тех, кто этим занимается по телефону», – обыкновенно говорит Соня. Вчера она, судорожно утопая в кресле, пуская последние пузыри, читала ему «Настоящую нежность не спутаешь». Горохов любил метафоры водяные. Была сушеная земляника, и от нее к пару над чашками примешивался совсем иной туман. (Взвешенное водяное сравнение.) Туман этот покрывал собой косогор Каменной Чаши, не пряча, однако, пухлое голое плечо Сони. Мошка, охочая до соленой жидкости, приклеилась к ее запыленным усикам. Надо было тогда и сказать ей, как она мне надоела. Гнойнички на лбу под челкой, гнилые передние зубы… Я старался вести себя серьезно, чтобы она ни в коем случае… Но Соня сама находила повод для улыбки. Рефлекторной, может быть, как у новорожденного. Когда он поест, когда он срыгнет, когда вставит тебе записочку (требование невыполнимо) и отойдет от двери, сохраняя сытую улыбку. Собственно, Соня всегда улыбается от сытости. Это у новорожденного совсем нет зубов, а у нее, чуть что, всегда в сумочке есть батончик. Каждая игра отнимает много сил, не удивительно, что после этого так хочется есть, говорила она, выходя из душа и вытирая спину полотенцем, которое держала за концы так, что двигалась только спина, а расставленные руки оставались неподвижными и, наверное, болели, и, наверное, ей эта боль доставляла удовольствие. Можно еще купить мороженое, булочку, трубочку, слоеный пирожок, жевательную резинку в шоколаде.
Это были утомительные прогулки от киоска к киоску. Соня вставала на цыпочки, показывала стертые каблуки, как ребенок, в окошечко глубоко ввинчивала руку. И всякое действие исполнялось ею серьезно, с любовью к собственному телу. Есть, купаться, всунуть ногу в ботинок, слизать кефир, пролитый из чашки на запястье. Подвести губы. Этого Горохов мог не бояться. Но вот речь. Каждая фраза у нее начинается с улыбки. Горохов спрашивал себя, почему мы все время только ходим, или что-нибудь покупаем, или что-нибудь едим? Он казался себе героем японского комикса для девочек. Однако в комиксах про девочек, у девочек хрупкие ножки в огромных ботинках, и когда они едят, это не портит им ни лица, ни фигуры. Такие же, как Соня… да нет, она, несмотря на одышку, все еще подвижна, все еще читает ему Ахматову, только Ахматову, только раннюю. Передовые девушки – им удается духовно вырасти до «Гражданской обороны», минуя соблазны брачных притязаний. «Никогда!» – вчера ответил ей Горохов.
Потому что у него в пепельнице лежали винные пробки. Две. Это опять Соня. Ты должен любить красное вино. И сначала, под ее присмотром, ему пришлось полюбить поддельное грузинское (сейчас вспомню марку), но вечер прошел приятно. Посетили загородный парк. Соню укусила оса. Горохов убедил ее в том, что это муравьиный укус, и так как укус муравья может пройти, если смазать его слюной, облизывал рыхленькую кожу над коленкой. Волоски попадали ему в нос. После этого романтического приключения (загадка ведь, чего это она летом не бреет ног) ему предложили полюбить вино молдавское. И вышло противно, вышло больно. Соня вина почти не пила, убежденная с детства, что если напьется, то натворит глупостей и упадет в своих глазах. Горохова она заставляла пить почти насильно. Но в молдавский час и с ней что-то произошло. Отбросив стыд, она потребовала, чтобы сонный, наглотавшийся кислятины Горохов пересчитал у нее все родинки, пока еще не стемнело. Раз уж он не может немедленно осыпать ее розовыми лепестками. Лепестки следовало бы заготовить, так как не везде приятно.
И потом она осталась лежать на его диване, смуглая в темноте, растекаясь как-то, поводя согнутыми коленями, бормоча не сразу добытое число. Все это еще могло бы сделать Соню привлекательной, но она вдруг сказала: падение должно быть полным. Потребовала себе капельку вина, взяла у Горохова зажженную сигарету. И так полежала перед ним, позируя, в одной руке сигарета, в другой крошечная стопка с видом Ульяновска, то сводя, то разводя колени. И в это время внутренняя кислота так одолела Горохова, что он удрал на кухню за ложечкой альмагеля.
Пробки остались. Пробки лучше, чем вино. Они, по крайней мере, настоящие. А почему ты их не выбросил? Э-э, знаете, как они пахнут? Этот запах особенно силен в их розовеньких попках… удивительное дело, не могу отличить, какая каким вином. Да это и не важно, для Горохова, не приученного к алкоголю, все вина делятся на белые и красные.
За окном действительно что-то кипело. Горохов жил на первом этаже, имел на окнах решетки. Решетки гудели, как гнусная арфа, а так хотелось покоя наедине с упрямой запиской… Школьником Горохов однажды увлекся виолончелисткой. В те дни ему казалось, что это музыка делает человека чутким и «хрупким, как натянутая струна», и он повторял эту истину, вычитанную неправильно из какого-то гербарного романа, не чувствуя, что даже, если исправить ошибку, все равно будет нонсенс и чепуха, какое-то кривляние слов. Он и в самом деле поддался обаянию широкого, громоздкого футляра, пухлой руки с прямо обрубленными ногтями в белых пятнышках, его завораживали волосы, зачесанные и ухоженные до воскового блеска. Что же еще? Ах, да, на ней все время были очень узкие набивные платья, которые книзу складывались воланчиком, волновались и волновали. Ноги были ужасные, хуже, чем у тебя, Соня. Плюс плоскостопие, оттого, что она с детства носила инструмент. Она практически не могла ходить. Десять минут прогулки протекали в поисках скамейки, жердочки, ящичка, заборчика. Но все это Горохова умиляло.
Маленький был еще, не знал, каковы настоящие музыканты. Потому, что чель челью, а беглость пальцев душевности не прибавляет. А тут еще дала о себе знать разница между идеальным слухом и чуткостью. Она не писала Горохову записочек, когда он перестал ей звонить. У Сони были такие же тупые пальцы, крепкие, злобные, и уже наклевывался парой весенних, немного липких почек геморрой – расплата за музыкальную школу, училище, консерваторию и кофе, кофе с утра до ночи.
Напрасно все-таки я держал их на окне. Или у меня такой аллергический насморк, что я ничего не чувствую? Выдохлись. Витька выпрашивал их. Двести пятьдесят шесть, с двумя гороховскими у него будет… но, конечно, еще не достаточно для того, чтобы сделать занавес, как в кабачке «13 стульев». Возвращаются, во всем возвращаются семидесятые, и в умах бродит нечто плоское, громкое, с запрокинутой головой. И в огне-то оно не горит (ну, это мы еще…), и в воде не тонет (а вот это верно). Горохов, отдай. Для чего тебе эти пробки?
Нет, не отдам. Я скучный человек, без фантазии. Не люблю жечь декоративные свечи и глядеть, как огонь бликует на боках перезрелых помидоров, не люблю красного вина, у меня от него черный понос и кислая отрыжка. Ненавижу посредственных пианисток за их ограниченность и неаккуратное устройство зада. Повторюсь, мне не нравится, когда под подушечкой указательного пальца вздрагивают какие-то липкие бородавки. Не люблю говорить об этом ни с кем, никогда тебе, Соня, ничего такого не скажу. Предоставляю это сделать тому, кто тебя вытерпит до конца. Я маленький, я тщедушный, я, наверное, жалок оттого, что не пишу энергичной музыки, истеричных стихов, вообще люблю помолчать в сторонке. Но у меня есть один пунктик… Вот эти две пробки от вин, которые ты заставила меня выпить. И этот пунктик нас с тобой никогда не примирит. И я сейчас кое-что сделаю.
В небесах долго договаривались, но потом окончательно решили, что бури и грозы сегодня не будет. Уложили гром в жестянку из-под бисквитов и стали его убаюкивать. А под окно Горохова послали Соню. Но только она не дошла. Ей не хватило мужества. Густая и вислорукая береза росла под окном Горохова, размахивая рукавами, за которые цеплялись усы дикого винограда. Хорошая, между прочим, ширма получилась, чтобы за нее могла зайти с улицы девушка, маленькая, черненькая, с блестящими злобными глазками, подняться на цыпочки, просунуть кулак между решетками. Горохов оставил окно распахнутым. Ну, и куда ты теперь постучишь?