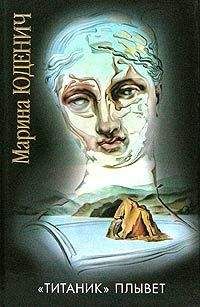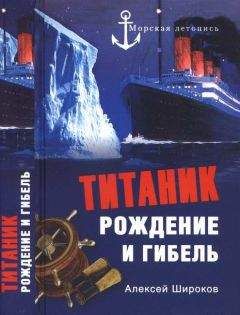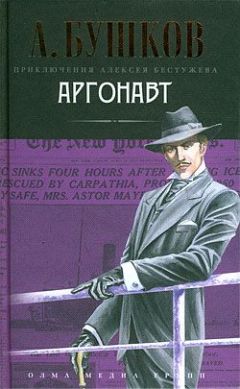Сергей Коровин - Прощание с телом
Эх, твою мать! Наконец-то! — вздохнул я, чувствуя, как меня пробирает густая крепость, и оглянулся. Флюгер качается с запада на юго-запад, по российскому берегу прибой бьет, туча ползет на закат — к ветру назавтра. Даже не верится! Тогда потрогай песок, потрогай перила, спустись, опусти руки в реку, умой разгоряченную морду, потяни носом: это же дым коптильни ползет с рыбзавода! Поверил теперь? И пошло оно все остальное!
А мужики на резинках, между прочим, время от времени кого-то тягали. Мои же снасти пока абсолютно не работали. Ни одной поклевки — тихо, как в морге. Ну, ничего, заработают — не сейчас, так через час. Всю нервотрепку последних дней у меня как ветром сдуло, стал я завидовать тем мужикам, стал размышлять, что предпринять. До них было метров пятьдесят, они, видно, яму нащупали. Что ж, я туда не доброшу? Выбрал две снасти, проверил наживку и снова давай кидать. Раз кинул — не попал, сносит, два — то же самое, словом, увлекся так, что они мне оттуда пальцем крутят: ты что, рехнулся, убьешь ведь. А тут траулер с моря подходит швартоваться, я две эти донки вытянул, потому что иначе он бы мне их отрезал, глянул на третью и вижу мощный удар, потом второй. Ё-моё! Подбежал к ней, подсек и чувствую: кто-то сидит. Хороший! Посмотрел на часы — просто так, машинально — половина десятого. Стал выбирать, а там метров восемьдесят, кручу — упирается, черт, — пальцы с непривычки сводит! Тут его, главное, ото дна оторвать, вывести наверх. Палкой качнул, смотрю — пошло легче. И вдруг он мне метров за сорок ка-ак даст винтом. Солнце на контре, ничего не видно, только фонтан, — судак себя так на крючке не ведет. Кто ж это, думаю, такой? Да не ушел бы, а то ведь и не узнаем! Подвожу под причал и глазам не верю: вот это подарок! Рыбаки с траулера тоже увидели и кричат: угорь, угорь! Оказался на кило шестьсот, девяносто пять сантиметров — я мерил потом — и толстый. Ох и намаялся я с ним на причале — попробуй-ка такого угря в пакет затолкать, это ж зверюга! — народ просто подыхал со смеху. Да, а трубку я все это время сжимал в зубах — забыл про нее — и только потом сообразил, отчего так горько во рту. Скоро солнце село, дождик заморосил, мужики незаметно убрались с фарватера, и тут у меня покатило. Пока одного судака вынимаешь да отцепляешь, на другом удилище уже конец прыгает — только поспевай поводки вязать и хвосты цеплять. Впрочем, они быстро кончились, и я поехал домой. По дороге я заглянул на городской причал, а там народу с удочками — немерено. Как судак, спрашиваю, ребята, пошел? Да, что там судак, отвечают, тут на пограничном сегодня один угря поймал! Представляешь, шестнадцатого июня, в половине десятого! Где это видано?
А на следующий раз, это было уже восемнадцатого, потому что пока я купил лицензию, пока нашел салаку, пока катер на воду поставил, с мотором возился — все-таки пять лет провалялся без дела, я увидел, как моя птичка голая купается. Ей-богу.
Тогда, в устье, когда я случайно покосился на берег и увидел двух блядей, которые лезли в воду, она была какая-то синяя и скрюченная. Никак Бабайка, подумал я и вытащил монокуляр, чтобы убедиться. Я ее почему-то сразу узнал, хотя стоял на якоре довольно далеко — в самом конце старых свай — и бросал то вправо, на глубину, то влево, по урезу, и поклевки шли одна за другой — наверное, метрах в семьдесяти, причем я ее прежде никогда без одежды не видел. В заливе-то в июне вода — ноги сводит, но тут, в устье, между молом и остатками старых причалов — укромный огороженный пляжик — метров, наверное, сорок — с теплой речной водой. В речке-то, если судак, отметав, скатывается, всяко больше двадцати градусов, вот и повадились тетки. Придут, окунутся, поплещутся, а там сразу достаточно глубоко, не то что на большом пляже, и выбегают к своим полотенцам, не обращая на нас никакого внимания, будто мы не посторонние мужчины, а просто детали пейзажа, как деревья на том берегу и их отражения, как сваи и запах мазута — кого стесняться?
Вот холера, и чего ее принесло? — подумал я с некоторой досадой, потому что еще три дня назад она нас так достала, что мы не знали, куда от нее деваться. Впрочем, не столько меня, сколько Аньку, но все равно мне не хотелось бы, чтобы пакостные питерские разборки имели продолжение здесь, вот тут вот, где я сижу посередине реки, которая прямо на глазах превращается в море, где я охочусь в соседней среде на дивных перламутровых хищников с пустыми крокодильими глазами.
Что это за выходки? — подумал я. Что это значит? У меня внутри даже что-то защемило, мне и в голову никогда не приходило, что кто-нибудь из тех уродов может опоганить своей рожей эти прекрасные приморские ландшафты, я учуял угрозу грубого вторжения чужой воли. Ну уж хер вам, а не поэтическая справедливость!
Энергичная поклевка вывела меня из отчаяния. Я отложил оптический прибор и резко подсек, не дожидаясь конца потяжки, — надо давать разбойнику шанс: если он проявит характер, то при вываживании может запросто выкинуть крючок из челюсти. А если заглотит, то ему не за что бороться, он тупо идет на убой, как корова, потому что ему больно — крючок-то сидит у него в глотке или еще глубже, — я так не люблю, и потом, неохота вязать новый поводок — не будешь же рвать с мясом, придется перерезать леску, поцеловать в лобик и уложить баинькать в сумочку с крючком в животе. Но при этом каждый становится личностью, получает гордое прозвище, например, Первый, Второй и так далее, или просто Довесок (на кило триста), или Здоровенный — понятно за что? или Засранец — если попался за задницу, при отвесном блеснении бывает и так, или Мерзавец — это который запутал снасть, один раз у меня такой парень намотался на якорный конец. Я их всех помню. Вот и этого ни за что не забуду, думал я, выбирая леску. А он ходил подо мной на течении, как воздушный змей ветреным утром, норовя создать катастрофическую ситуацию, то заходя далеко в край, то обратно, но я ему слабины не давал. Между прочим, в тот раз я зацепил четырнадцать хвостов, а этого упустил — ушел вместе с поводком, когда я его уже поднимал на борт, — подсачник-то на судака у нас тут никто не берет. Хороший был, черт, килограмма, наверно, на два с половиной, не меньше. Во-от такой лапоть, честное слово.
Потом я еще раз оглянулся на берег. Эти еще плавали, по-собачьи задрав головы. В монокуляр я заметил, что она держится на воде не очень уверенно, боится замочить лицо, вытягивает шею. Можно, конечно, быстренько выбрать якорь, запустить двигатель, развернуться, влететь на скорости в заводь, покататься там у них перед носом, отрезать от берега и прямо спросить, зачем приехала? Я уже даже потянулся к лебедке, но остановился. Зачем? — передумал я. Мы же решили из лесу смотреть. Несмотря на то, что мне жутко хотелось все бросить и пойти поесть, я все-таки выдержал паузу. Они стали выходить. Я внимательно рассмотрел сзади одну и вторую, а когда они стали одеваться, и спереди. Вторая была покрупней, в незагорелых местах очень развитая, и Бабайка, вся беленькая телом, выглядела возле нее просто школьницей. Отвернувшись от своей приятельницы, которую я вроде где-то видел, она, только слегка промокнув тут и там, первым делом натянула майку, следом — предварительно оценив и расправив перед собой — трусы и шорты. Мигом вырядившись в динамовские цвета, она долго и тщательно расчесывалась, о чем-то переговариваясь через плечо, с некоторой тревогой оглядывая речку, дюну и кусты ивняка на ней, подозрительно щурясь на море и высокие облака. Вторая дура долго светила голой жопой с полотенцем на шее, копалась в сумке, наверно, забыла взять что-то нужное, а потом просто накинула на себя цветной балахон и они стали подниматься по песку, держа обувь в руках. Все понятно, усмехнулся я. Теперь надо узнать, где она остановилась. Судя по всему, они не подружки, эта, вторая, просто случайная попутчица. Изучая в тридцатикратный прибор лунки ее следов, я тогда даже не предполагал, что скоро буду целовать пальчики и пяточки, которые их оставляют. Я в жизни не видел таких узеньких, легких ступней, таких тоненьких щиколоток.
Анна сильно нахмурилась, когда я им рассказал, кого видел. Они с Колькой как раз перед этим приехали, у меня угорь еще елозил по судакам в пустом холодильнике, все рука на него не поднималась — дожидался, пока сам уснет. Но от Анькиного внимания к своей персоне — она заявила, что копченый угорь — это ее греза, что она помнит, какой он вкусный, и каждые пять минут заглядывала в холодильник, искренне желая немедленной гибели бедному водному животному, — от ее трогательного нетерпения он разбушевался, и я его приколол. Но, наверно, Анька врет, что помнит. В последний раз я поймал такого, когда ей было пять лет, ровно тридцать лет назад. Колька сказал, что если я сохраню такие темпы, то популяции данного вида практически ничего не угрожает. Мы выпотрошили этого, как выразилась Анька, славненького толстячка, натерли солью и оставили в пакете на кухне, чтобы скорей просолился для коптилки. «Как Жирного», — усмехнулся Колька, а Анька сказала: «Прекрати, или я кушать не буду».