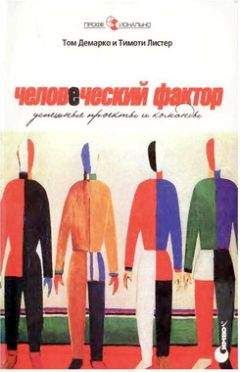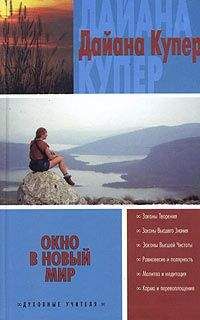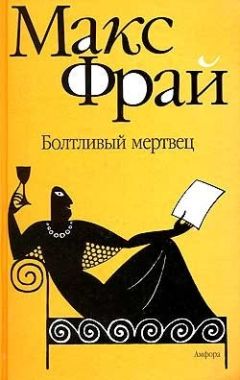Роберт Ирвин - Утонченный мертвец (Exquisite Corpse)
Аэроплан накренился над устьем Темзы. Я закрыл глаза и попробовал сосредоточиться. Я же из «Серапионовых братьев», а мы в братстве верим, что воображение – великая сила, которая преобразует реальность и позволяет нам выходить за пределы пространства и времени. Сейчас я открою глаза и окажусь в галерее Нью-Барлингтон, с бокалом вина в руке, и услышу, как Поль Элюар прочитает свое: «Une femme est plus belle que le monde ou je vis…» Я окажусь в галерее и, вероятно, не буду помнить ни новогоднего Бала Искусств в Челси, ни вчерашнего разговора с Кэролайн, когда она объявила о своей вероятной беременности, ни этого вылета из Кройдона – я все забуду, но это будет блаженное беспамятство.
Но у меня ничего не вышло. Я верил, что все получится, но верил не в полную силу, и когда я открыл глаза, аэроплан пробивался сквозь встречный ветер к берегам Франции.
Самое странное, что теперь, когда я узнал о неверности Кэролайн, я желал ее еще сильнее. Теперь я доподлинно знал, что у нее есть своя тайная жизнь, независимая от меня. Конечно, мне было обидно, но с другой стороны, я открыл для себя новую Кэролайн. Она вдруг сделалась более настоящей и по-человечески близкой – именно потому, что не была совершенством, и я понял, что люблю ее вероломство не меньше, чем ее роскошное тело. Тем не менее, эта измена меня сразила и заставила усомниться в самих принципах мироздания, как они виделись мне до сих пор. Потому что я верил, что наша встреча была не случайной – что мы с Кэролайн предназначены друг для друга самой судьбой, которая проявляет себя в случайностях, совпадениях и желаниях.
Une femme est plus belle que le monde ou je vis Et je ferme les yeux.
Эти строки я процитировал Кэролайн в Сент-Джеймсском парке, а потом, спустя несколько месяцев, эти же строки прочитал нам сам автор. Безусловно, это был знак – знамение свыше. Благословение, дарованное нам судьбой, принявшей обличив слепой случайности. Вряд ли я мог ошибиться. Это было бы слишком жестоко. И Кэролайн не имела права противиться велению судьбы.
Я боялся, что у меня будут сложности в аэропорту, что меня станут расспрашивать о целях приезда, а мой багаж будет подвергнут тщательному осмотру на предмет подозрительной литературы, но все прошло на удивление гладко.
– Добро пожаловать в Мюнхен.
В том месяце в Мюнхене проходил Фестиваль немецкого искусства и культуры, так что приезжих было немало, и я далеко не сразу нашел Gastheim, где были свободные номера. Когда же я, наконец, поселился в гостинице и распаковал свои вещи, мне уже ничего не хотелось – только упасть на кровать и спать. Но заснуть удалось лишь под утро, потому что, как только я лег, в голову сразу полезли мысли, и я всю ночь думал о Кэролайн (и в ту ночь, и на следующую, и еще много ночей подряд), о том, что она сделала, и что сделал я, и чего мы не сделали из того, что должны были сделать, и что мы могли бы сказать друг другу, но не сказали. Мысли неслись, словно бурный поток воды, приводящий в движение мельничное колесо, и скрип жерновов не давал мне заснуть. Мне редко когда удавалось поспать больше двух часов кряду.
Следующие два дня я бесцельно бродил по городу, выбирая направление по случайным подсказкам – по рукам статуй, вскинутым в нацистском приветствии, по взгляду бронзовых орлов, по красным знаменам со свастикой, хлопающим на ветру. Я провел в Мюнхене две недели, и эти недели запомнились мне ослепительно синим небом, которое всегда было чистым, с редкими белыми росчерками облаков. Я понимаю, что это звучит нелепо, но почему-то мне кажется, что довоенные облака были совсем не такими, какие они сейчас. Так что те облака над Мюнхеном запомнились мне облаками тридцатых. И еще мне запомнились женщины. Всегда – восхитительно элегантные, и почти всегда – под руку с офицерами СА или СС. Мой взгляд художника привлекали не только наряды женщин, но и мундиры военных. Как однажды сказал мне Уолтер Бенджамин: «Фашизм – это эстетизация политики».
Мюнхен в то лето был городом роз. Повсюду сплошные гирлянды из роз, и знамена, и бронзовые орлы на вершинах высоких мраморных колонн. Пышно украшенный город -подходящий фон для моей персональной тоски. Я был один.
И не только в том смысле, что без Кэролайн. Впервые за несколько лет я был совершенно свободен, и мог спокойно подумать наедине с самим собой, и разобраться в себе, и погрузиться в анализ своих настроений и мыслей, не чувствуя себя обязанным докладывать «Серапионовым братьям» о результатах своих размышлений.
По вечерам я напивался один в своем номере, слушая отдаленное громыхание духовых оркестров в соседних кафе и пивных. Я не стремился общаться с людьми. Я возобновил свои занятия по гипнозу: сидел перед зеркалом, сверлил взглядом свое отражение и находил некое смутное утешение в этом скучном и однообразном занятии. При этом мне вспоминались слова Ницше, однажды процитированные Манассией: «Если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреться в тебя». Выполняя упражнения, призванные укрепить магнетическую силу взгляда, я подолгу сидел перед зеркалом, изучая отражение своих зрачков, заключенных в его поверхности. Невзирая на предостережение Ницше, я продолжал эти занятия, и в скором времени – я сам не знал, почему так получилось: видимо я безотчетно пытался сохранить свою цель в секрете даже от себя самого, – я принялся изучать свои губы и их безмолвные движения. Я решил овладеть искусством читать по губам.
Только на третий день я почувствовал себя готовым посетить Entartete Kunst – выставку дегенеративного искусства. Собственно, ради нее я и приехал в Мюнхен. Нацистские власти собрали большую коллекцию авангардной живописи и скульптуры и выставили эти «образчики вырождающегося искусства» в старом здании Института археологии. В дегенераты попали: Нольде, Кирхнер, Брак, Шагал, Шмидт-Ролдуф, Кокощка, Мондриан и многие другие.
«Искусству не должно валяться в грязи ради грязи. Искусство не предназначено для того, чтобы изображать человека в состоянии полного разложения, когда слабоумные кретинки символизируют материнство, а убогие деформированные идиоты – мужскую силу».
Каждый «дегенеративный» экспонат был снабжен подобной сопроводительной надписью, оскорбляющей произведение и содержащей предостережение для зрителя.
«Некоторые политически несознательные личности, лишенные эстетического чутья, восхваляют художников, которых на протяжении четырнадцати лет оболванивали марксисты и евреи, и превозносят их как революционеров искусства. Но немецкий народ не приемлет такое искусство».
«Еврейская тоска по бесплодной пустыне разоблачает себя в Германии, и негр становится расовым идеалом дегенеративного искусства».
«Если они действительно видят реальность такой, какой ее изображают, значит, это несчастные, больные люди, и они, как и всякие душевнобольные, должны быть подвергнуты стерилизации, чтобы не плодили таких же несчастных уродов. Если же они видят реальность такой, какой ее видят нормальные люди, но продолжают настаивать на том, чтобы изображать ее в извращенном виде, тогда этих художников следует привлекать к уголовной ответственности. (Адольф Гитлер)».
Прислушиваясь к разговорам других посетителей выставки, я с ужасом понял, что в этих нравоучительных текстах, в общем, и не было надобности. Со всех сторон только и слышалось:
– Отвратительно! Мерзко! И что это должно означать? Зачем выставлять на всеобщее обозрение такое уродство?! Если вы спросите мое мнение, я скажу, что задача искусства – изображать только то, что красиво, а это вообще не искусство, а грязь. Боюсь, как бы меня не стошнило!
А одна юная Hausfrau’ в ярком цветастом платье выдала следующее:
– Надо было здесь выставить не картины, а самих художников, чтобы честные люди могли подойти к ним и плюнуть в рожу!
Пожилая дама в черном, очевидно, ее мать, одобрительно кашлянула.
И я, шпион сюрреализма в Доме дегенеративного искусства, сжался от страха и виновато опустил глаза. Я боялся разоблачения. Но больше всего я боялся, что они, может быть, правы, и мне очень хотелось, чтобы моя верность сюрреализму была столь же непоколебимой, как их к нему ненависть. Это была нехорошая мысль, совершенно чудовищная и нелепая, но мне действительно было страшно, что человеческая ограниченность заразна и что эти ужасные люди навяжут мне свой взгляд на вещи.
* Домохозяйка (нем.)
И все же, пока я бродил по выставке и рассматривал произведения кубистов, экспрессионистов и сюрреалистов, столь ненавистных нацистскому режиму, мой рассеянный взгляд лишь скользил по поверхности и не будил никакого движения мысли. Потому что я думал совсем о другом. Я думал о Кэролайн и о том, как ее соблазнил Клайв. Я рисовал себе в воображении эту сцену, как Кэролайн отдавалась ему; я проигрывал ее вновь и вновь, как фрагмент старого фильма – сплошные царапины на пленке, резкие, толчкообразные движения и неверный мигающий свет. Кэролайн, заливаясь румянцем, раздевается перед Клайвом, а он наблюдает за ней с самодовольной улыбочкой. Она стоит перед ним, трепетная и нагая. Она вся горит – так велико возбуждение. Она больше не может ждать. Идет к нему, помогает ему раздеться. Ее руки дрожат, она еле справляется с его запонками и застежкой на воротничке. Теперь Клайв тоже голый, только забыл снять носки. Он бросает ее на кровать и накрывает ее своим телом, и она обнимает его, прижимает к себе, и он безо всяких прелюдий вонзает в нее свой багровый член, и она кричит – поначалу от боли, а потом от безумной радости. А в самом конце, уже после всего, они лежат на смятых простынях в благостной полудреме и осуждают со смехом, что делать с несчастным, больным от любви Каспаром.