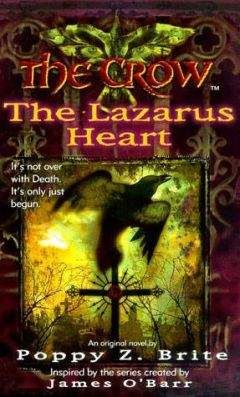Владимир Сорокин - Норма. Тридцатая любовь Марины. Голубое сало. День опричника. Сахарный Кремль
Помолчав, он продолжал:
– Светотень порождает массу проблем. Не только живописных, но и проблем постижения образа Божьего. Она смешивает чувственное и духовное, земное и небесное, заставляет живописца каждый раз отделять одно от другого. Отделять мучительно, порой безрезультатно. Так не смогли справиться с этим Рафаэль, Леонардо и весь пантеон величайших западных художников, подлинных виртуозов кисти. А православный монах Рублёв – смог. Смог… потому что была с ним благодать Божья. Вера, Надежда, Любовь…
Усы отца задрожали, сузившиеся глаза блеснули слезами.
Он медленно встал и перекрестился…
Антон щелчком сбил со стола яблочный огрызок и вылил в бокал остатки водки.
Вера, Надежда, Любовь… Любовь…
Он поднёс бокал к губам и замер в оцепенении от хлынувшего майского тепла, впущенного в горницу тонкой загорелой рукой. Другой она прижимала к юной груди узкогорлую крынку с молоком. Шагнула через порог, неслышно ступая босыми ногами, и остановилась, обняв крынку, словно ребёнка.
Восемнадцатилетний Антон сидел в углу, зажав меж колен старинное шомпольное ружьё и тщетно стараясь оттянуть от полки запавший курок.
– Здравствуйте, – тихо проговорила она, глубоко и часто дыша, отчего её худенькие плечи чуть заметно поднимались.
Здравствуйте. – Антон отставил в сторону тяжёлое ружьё.
Она была в лёгком ситцевом платье без рукавов, и первое, что тогда поразило Антона, – её золотистый загар.
«Надо же в мае так загореть», – только и успел подумать он, вставая.
– А баба Настя дома? – спросила она.
Её лицо, глаза, волосы, губы и плечи, лёгкая походка, тонкие руки и маленькие холмики грудей под цветастым ситцем – всё было одинаково очаровательно, молодо, свежо и гармонично этой самой гармонией, явление которой мы называем национальной красотой. В данном случае это была русская красота во всей своей полноте и притягательности.
Раньше Антон никогда не встречал эту девушку среди местных. И тем не менее городской быть она не могла – деревенским был её протяжный выговор и весь облик выдавал деревенское происхождение.
Но красота! Удивительная, тонкая, полнокровная – она так поразила Антона, что он стоял, не отвечая, стоял, глядя на неё, забыв начисто всё.
– Так что, дома баба Настя? – Её губы растянулись в застенчивой улыбке.
– Нет… нет… – пробормотал Антон, стряхивая оцепенение, и добавил, пряча испачканные ружейной гарью руки за спину: – Её нет сейчас. Она куда-то вышла. А вы, вы проходите, пожалуйста.
Но девушка, не переставая улыбаться, повела плечом:
– Да нет уж. Я вот молока принесла, как баба Настя просила. Она вчера-от заходила к нам по молоко.
– К вам? – переспросил Антон, чувствуя, что начинает густо и безнадёжно краснеть.
– Ага, – кивнула девушка, ставя молоко на стол. – Заходила по молоко. Теперь-от я вам буду носить аль Кешка.
– А это… это, – смотрел Антон на крынку.
– Это утрешнее. Тётя Марья подояла и у погреб. У погребе стояло.
Она быстро провела освободившейся рукой по лбу, тряхнула головой, и за плечами качнулась толстая русая коса.
– Так что же, – проговорил он уже более спокойно, – баба Настя заплатила вам?
– Еще вчерась, – улыбнулась девушка, – уплотила за месяц вперёд.
– Это хорошо. Так, значит, вы у тётки Марьи живёте?
– Ага.
– А я вас на деревне никогда не замечал.
Она улыбнулась шире, обнажив ровные крепкие зубы:
– Конечно. Я ж с Ракитина.
– Из Ракитино?
– Ага. Папаня с братом у городе баню строить нанялися, маманя к Оленьке в Торжок подалась, а мы с Кешкой – к тёте Марье.
– Значит, вы ей родня?
– Родня, а как же. Племянники мы ей.
– Это хорошо, – проговорил Антон и замолчал, не зная, как продолжить разговор.
Девушка взялась за ручку двери, толкнула, обернувшись, произнесла:
– Ну, пошла я. До свиданья вам.
– Аааа… – растерянно протянул он, не в силах оторвать взгляда от её лица. – А как вас зовут?
– Таня, – ответила она, снова отводя рукой со лба русую прядь.
– А меня Антон, – сказал он и замялся, видя, что она по-прежнему молчит и улыбается, опустив ресницы.
– Ну я пошла, – повернулась она и шагнула за дверь.
Так в жизни Антона появилась Таня. Таня. Танечка. Танюша.
Они встречались в берёзовой роще, бежали, взявшись за руки к запруде, где, раздвинув камыши, торчал киль голубой отцовской лодки.
Антон за цепь подтягивал её к берегу, подсаживал Таню, прыгал сам и отталкивался веслом от илистого берега.
Они плыли.
Пруд перетекал в неширокую реку, Антон грёб так, как всегда гребётся по течению – легко, свободно. Таня сидела напротив, крепко держась за борта и глядя на Антона своими карими глазами.
Вскоре река расширялась, обрастая по берегам ивняком и камышами, течение становилось медленнее, Антон бросал вёсла и, сложив руки на коленях, молча смотрел на Таню.
Она была прекрасна, эта стройная загорелая девушка, любящая его и любимая им.
А как прекрасна была их любовь – это чудо, расцветшее дивным живым садом в двух юных сердцах!
Как прекрасны были вечера с полосами тумана вдоль речных берегов, и речная тишь, и чистое вечернее небо, и далёкий лай деревенских собак.
Антон причаливал к знакомому камню, они выбирались на берег, и под раскидистыми ивами, чьи гибкие ветви так верно хранят вечернюю прохладу, он целовал Таню в мягкие податливые губы.
Кругом было тихо, окутанная туманом река неслышно несла себя к Волге, плескаясь доверчивой рыбой.
А губы любимой были горячими, нежными, желанными, её руки дрожали, на шее билась крохотная жилка.
Антон целовал истово, жадно, а она вздрагивала, опустив ему на плечи покорные руки. Потом он подхватывал её и нёс в поле по русому, золотому, как и её коса, жнивью, она прижималась к нему и безмолвствовала, чуть дыша.
Посередине поля стоял огромный стог сена, наплывающий на них как могучий корабль. Это был ковчег их любви, уносящий от всего земного, поднимающий к розовому вечернему небу, к искрам первых звёзд.
Здесь, на душистом сене, они любили друг друга – юные, страстные, искренние в своём первом чувстве…
Что может быть прекраснее первой любви? О каком другом чувстве можно писать так много и подробно и в то же время не сказать ничего? Неподвластно оно перу, бумаге и расчётливому писательскому уму, не держится в ровных типографских строчках, не живёт в толстых пропылившихся томах.
Так где же оно?
В глазах, в лицах, смотрящих друг на друга, в руках, сплетённых и не могущих разъединиться, в сердцах, бьющихся в едином порыве.
Как они любили!
Антон с трудом встал с покосившейся лавочки, оперся ладонями о стол.
Тогда они лежали рядом, глядя в бескрайнее ночное небо, её рука была мягкой и спокойной, щека горячей, глаза влажно блестели в темноте.
– Антош, а что это за звёздочка?
Её голос звучал тихо, от близких губ шло горячее дыхание.
– Где?
– А воон там, у ковшика, самая яркая.
– Это Полярная звезда.
– Полярная?
– Да.
Помолчав, она продолжала:
– Полярная… это, значит, чьего-то поля, так?
Антон улыбнулся:
– Ну, как тебе сказать. Если небо – это поле, то это – главная его звезда.
Она вздохнула.
– Да…
– Что?
– Как у Господа всё на местах-то…
Антон обнял её, прижался губами к щеке и вдруг почувствовал солоноватый привкус слёз.
– Что с тобой, Танюша?
– Да ничего… – улыбнулась она, неловко обнимая его за шею и притягивая к себе, – это я так… от радости…
И добавила горячим шепотом:
– Люблю я тебя, соколик мой, больше жизни…
Антон взял её лицо в свои ладони и стал покрывать поцелуями.
– Таня. Милая, добрая Таня…
Он тряхнул головой, словно пытаясь вместе с хмелем стряхнуть эти живые, мучительно родные картины юности.
Тогда, лёжа в душистом сене, они не знали, что случится через неделю. Два юных влюблённых существа. Судьба безжалостно разъединила их, убив Татьяну молнией…
Хоронили её всей деревней.
В переполненной сельской церкви пахло ладаном, свечами и деревенской толпой. Низенький седобородый отец Никодим неспешно помахивал кадилом, и звук брякающей цепочки странно переплетался с пением немногочисленного хора…
Антон стоял за родственниками погибшей, неотрывно глядя в родное лицо, пугающее отрешённым спокойствием. Она лежала в просторном гробу, обтянутом чёрным коленкором, в синем некрасивом платье, с белым расписным венчиком на лбу. Четыре тоненькие свечки горели на углах гроба, хор пел «Вечную память»…
Левая рука её была зеленовато-синей. Молния ударила в плечо…
Антон бросил пустую бутылку в кусты, убрал бокал, крест и письмо в шкатулку и, подхватив её, нетвердым шагом двинулся к поваленному забору.
«Как странно, Господи, – думал он, – вместе с этой девушкой погибла моя юность. Она кончилась тут же, кончился этот лесной рай, оборвалась золотая нитка. Но почему? Почему так безжалостна судьба? Почему только развалины встречают нас, когда мы возвращаемся в прошлое? Почему только слёзы, холодные слёзы текут по щекам, застилая глаза? Почему только горечь и боль пробуждаются в сердце?» Он шагнул через забор, прошёл под липами.