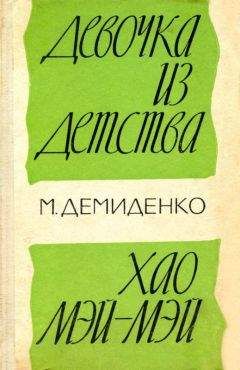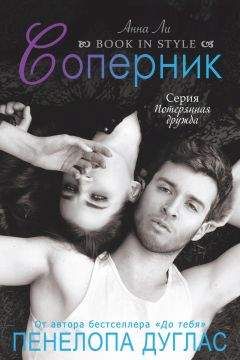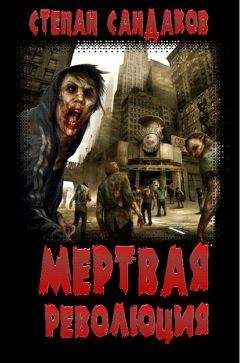Чак Паланик - Удушье
Глава 22
Доктор Пэйж Маршалл туго натягивает какую-то белую струну между двух рук в перчатках. Стоя над сидящей в кресле сдутой сморщенной старухой, доктор Маршалл командует:
— Миссис Уинтауэр? Откройте рот, пожалуйста, настолько широко, насколько сможете.
Эти латексовые перчатки; та желтизна, которую они придают рукам — один-в-один так же выглядит трупная кожа. У медицинских трупов с занятий по анатомии на первом курсе, со сбритыми на голове и в интимных местах волосами. С коротенькой щетиной волос. Кожа у них словно куриная, — как у дешёвой варёной курицы, желтеющая и покрытая фолликулами. Волосы, перья — всё это просто кератин. Мышцы человеческого бедра выглядят точно как тёмное мясо индейки. После анатомии на первом курсе нельзя уже смотреть на курицу или индейку и при этом не жрать мертвечину.
Старуха откидывает голову назад, демонстрируя свои зубы, выстроившиеся коричневым полукругом. Язык у неё подёрнут белым. Глаза закрыты. Вот так же все эти старухи выглядят на причастии, в католическую мессу, когда ты мальчик с алтаря, который должен следовать за священником, пока тот кладёт облатку на один язык за другим. Церковь говорит, что можно принять гостию в руку, потом накормить себя — но этих старушек оно не касается. В церкви всё смотришь на причастии вдоль перил и всё видишь двести раззявленных ртов: двести бабуль тянут языки навстречу спасению.
Пэйж Маршалл склоняется и всовывает белую струну старухе между зубов. Потом тянет её, и когда струна вылетает изо рта, оттуда выплёскиваются какие-то мягкие серые частицы. Она пропускает струну между следующей парой зубов, и струна возвращается наружу красной.
При кровотечении дёсен см. также: Рак ротовой полости.
См. также: Некротический язвенный гингивит.
Единственный приятный момент в работе мальчиком с алтаря: ты должен держать дискос у подбородка каждого, кто получает причастие. Это золотой подносик с ручкой, которым ловят гостию, если та падает. Ведь, даже если гостия шлёпнется на пол — её всё равно нужно съесть. На этот момент она уже освящена. Она становится христовым телом. Воплощением плоти.
Наблюдаю сзади, как Пэйж Маршалл снова и снова засовывает окровавленную струну старухе в рот. Серые и белые частицы грязи скапливаются спереди на её халате. И маленькие крапинки розового.
Какая-то медсестра заглядывает в дверь, интересуется:
— Всё здесь в порядке? — спрашивает старуху в кресле. — Пэйж не делает вам больно, правда?
Та булькает в ответ.
Сестра спрашивает:
— Это что значило?
Старуха сглатывает и отвечает:
— Доктор Маршалл очень аккуратна. Она куда бережнее обращается моими зубами, чем вы.
— Почти всё, — говорит доктор Маршалл. — Вы такая молодец, миссис Уинтауэр.
А медсестра пожимает плечами и уходит.
Приятный момент в работе мальчиком с алтаря — это стукнуть дискосом кому-нибудь под глотку. Люди стоят на коленях, сцепив руки в молитве, и та лёгкая гримаса, в которой корчится рожа каждого в такой божественный свой миг. Любил я такое дело.
Когда священник будет класть каждому на язык гостию, он скажет:
— Тело Христово.
А человек, преклонивший колени для причастия отзовётся:
— Аминь.
Лучше всего — стукнуть ему под глотку так, чтобы слово «аминь» вышло как детское «агу». Или чтобы он издал утиное «кря-кря». Или куриное «ко-ко». Только делать это надо как бы нечаянно. И нельзя смеяться.
— Готово, — объявляет доктор Маршалл. Она выпрямляется, и, когда идёт выкинуть окровавленную струну в мусор — замечает меня.
— Не хотел мешать, — говорю.
Она поднимает старухе подняться с кресла и просит:
— Миссис Уинтауэр? Вы можете пригласить ко мне миссис Цунимитсу?
Миссис Уинтауэр кивает. Сквозь щёки можно рассмотреть её язык, который тянется туда-сюда во рту, ощупывая зубы, засасывая губы в тугие складки. Прежде, чем выйти в коридор, она смотрит на меня и заявляет:
— Говард, я уже простила тебе твой обман. Можешь больше не приходить.
— Не забудьте прислать миссис Цунимитсу, — напоминает доктор Маршалл.
А я спрашиваю:
— Ну что?
А Пэйж Маршалл отвечает:
— Ну, мне придётся целый день проводить зубную гигиену. Что тебе нужно?
Нужно узнать, что сказано в мамином дневнике.
— Ах, это, — отзывается она. Со щелчком стаскивает латексовые перчатки и заталкивает их в канистру с надписью «вредные отходы». — Дневник доказывает только одно — что твоя мать помешалась задолго до твоего рождения.
Это как ещё помешалась?
Пэйж Маршалл смотрит на часы на стене. Машет рукой в сторону стула, — того с виду обтянутого виниловой кожей кресла, которое только что покинула миссис Уинтауэр, — и говорит:
— Присядь, — натягивает новую пару перчаток из латекса.
Она что — собралась чистить мне зубы?
— Изо рта лучше пахнуть будет, — отвечает она. Выпутывает новый отрезок нитки для зубов и повторяет:
— Садись, а я расскажу тебе, что в дневнике.
Ну, сажусь я, — а под моим весом из кресла выталкивается облако мерзкой вони.
— Это не я, — говорю. — В смысле, про запах. Я этого не делал.
А Пэйж Маршалл уточняет:
— Перед тем, как ты родился, твоя мать некоторое время провела в Италии, так?
— И что — в этом большой секрет? — спрашиваю.
А Пэйж говорит:
— В чём?
В том, что я итальянец?
— Нет, — отвечает Пэйж. Она склоняется к моему рту. — Но твоя мать — католичка, так?
От струны больно, когда она протягивает её между парой зубов.
— Пожалуйста, скажи, что ты шутишь, — прошу. — Быть не может, что я итальянец да ещё католик! Такого мне просто не вынести.
Говорю ей, что давно всё это знаю.
А Пэйж приказывает:
— Помолчи, — и отклоняется назад.
— Так кто же мой отец? — спрашиваю.
Она склоняется к моему рту, и струна проскальзывает между пары задних зубов. Вкус крови скапливается у основания моего языка. Она внимательно щурится вглубь меня и отвечает:
— Ну, в общем, если веришь в Святую Троицу, то ты и есть свой собственный отец.
Я свой собственный отец?
Пэйж рассказывает:
— То есть, мне кажется, слабоумие твоей матери берёт начало ещё до твоего рождения. Согласно с тем, что написано в её дневнике, она была помешана как минимум с последних лет третьего десятка.
Она выдёргивает струну, и частицы еды забрызгивают ей халат.
Я спрашиваю, что ещё значит — Святая Троица?
— Ну, это самое, — объясняет она. — Отец, Сын, Святой Дух. Три в одном. Трилистник святого Патрика.
Да чёрт её дери, может она мне сказать, коротко и ясно, — спрашиваю, — что говорится обо мне в мамином дневнике?
Она смотрит на окровавленную струну, только что выдернутую из моего рта, и разглядывает мои частицы пищи и крови, забрызгавшие ей халат, и сообщает:
— Такое помешательство среди матерей не редкость, — склоняется со струной и обвивает ей очередной зуб.
Кусочки этой дряни, полупереваренной дряни, о которой я даже понятия не имел, вырываются на свободу и вылетают наружу. Когда она таскает мою голову за нитку для зубов — я прямо лошадь в удилах из Колонии Дансборо.
— Твоя бедная мать, — продолжает Пэйж Маршалл, глядя сквозь кровь, забрызгавшую стёкла её очков. — Настолько помешалась, что искренне считает, будто ты — второе Христово пришествие.
Глава 23
Каждый раз, когда кто-то в новой машине предлагал подбросить их, мамуля отвечала водителю:
— Нет.
Они стояли на обочине, глядя, как новый «кадиллак», «бьюик» или «тойота» исчезают вдали, а мамуля говорила:
— Запах новой машины — это запах смерти.
То был третий или четвёртый раз, когда она вернулась забрать его.
Запах клея и резины в салоне нового автомобиля — это формальдегид, рассказала она ему, — то же самое, в чём хранят покойников. Он же — в новых домах и новой мебели. Такое называется «дегазация». Можно надышаться формальдегидом от новой одежды. Когда наглотаешься достаточно — жди желудочные спазмы, рвоту и понос.
См. также: Отказ печени.
См. также: Шоковый синдром.
См. также: Смерть.
Если ищешь просветление, сказала мамуля, то новая машина — не ответ.
Вдоль дороги цвела наперстянка, высокие стебли бело-фиолетовых цветков.
— Дигиталис этот, — заметила мамуля. — Тоже не помогает.
Если поесть цветочков наперстянки — они вызовут тошноту, бред, помутнение зрения.
Над ними грудью в небо вздымалась гора, задевающая облака и укрытая соснами, — а потом, повыше, шапочкой снега. Она была такой большой, что, сколько бы они не шли, оставалась на том же месте.
Мамуля достала из сумки белую трубочку. Сжала плечо глупого маленького мальчика для равновесия и крепко втянула воздух, воткнув трубочку себе в ноздрю. Потом выронила трубочку на гравий обочины и молча стояла, глядя на гору.
Гора казалась такой большой, что им придётся идти мимо неё вечно.
![Николай Печерский - Важный разговор [Повести, рассказы]](/uploads/posts/books/210499/210499.jpg)