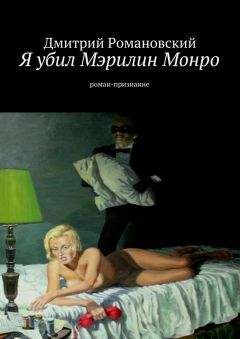Дэвид Мэдсен - Шкатулка сновидений
— А твоего мнения никто не спрашивает, ты, жирный, надоедливый, отвратительный идиот!
— Он снова назвал меня жирным, доктор…
— Думаю, нам необходим публичный обряд! — вмешался архиепископ Стайлер. — Хотя он почти порвал внутренности моей бедной жены во время этого жестокого акта неоднократного изнасилования, мне жаль мальчика. Ему нужен Обряд Исцеления. Публичный обряд. Я все организую!
— Я не хочу участвовать в ваших дурных обрядах! — закричал я.
— Думаю, чем раньше, тем лучше, — произнес доктор Фрейд своим старческим, дрожащим голоском.
Они отошли от кровати, и архиепископ Стайлер открыл дверь. Прижавшийся к нему Малкович толкал его в плечо. Доктор Фрейд оглянулся и сочувственно посмотрел на меня.
— Я немедленно свяжусь с деканом[48] Курмером, — донесся из коридора голос архиепископа. — Доктор Фрейд, усыпите его, если необходимо.
— Или закуйте маньяка в кандалы! — испуганно добавил Малкович.
Доктор Фрейд бесшумно закрыл за собой дверь.
Некоторое время я лежал, уставившись в потолок, и нежно размышлял об Адельме. Мне приснилось, что мы занимались любовью, но все казалось таким восхитительно настоящим. Помнит ли она этот сон? Так же живо, как и я? Или, быть может, ее дремлющая душа ничего не знает? Надо найти ее и спросить!
Выбраться из кровати было просто, а вот удержаться на ногах оказалось значительно более трудной задачей. Сначала я опирался на разные предметы: железное изголовье кровати, ночной столик, стенку шкафа… — потом, вытянув руки, чтобы не потерять равновесия, медленно прошел в центр комнаты… и, наконец, добрался до двери. Затем я заставил себя снова вернуться к кровати и опять пройти к двери. Я проделал это несколько раз, пока не почувствовал уверенность в своей походке. У меня кружилась голова, меня слегка тошнило, но я приписал слабость долгому лежанию — интересно, сколько времени я пролежал на кровати? Мой желудок роптал. Я страшно хотел есть. Правая сторона моего тела немного ныла, а когда я слишком быстро поворачивался, боль пронзала поясницу. Несмотря на все это, я, однако, чувствовал себя вполне хорошо. Докторская чушь насчет уплощенной диафрагмы действительно оказалась чушью. Я открыл дверь и вышел в коридор.
Где же она может быть, моя прекрасная Адельма? Да где угодно! Одной рукой держась за стену, я побрел в сторону лестницы. Прогресс, хоть и не стремительный, был очевидным. Дойдя до лестницы, я оперся на балюстраду и посмотрел на нижний этаж, судя по всему, прихожую замка Флюхштайн, которую я узнал по вычурному черно-белому мраморному полу. Развернувшись, я начал подниматься вверх. Там оказался еще один коридор, увешанный причудливыми чертежами в позолоченных рамках. Для меня они выглядели совершенно непонятными — сплошные каракули, цифры и загадочные алгебраические формулы. Коридор кончался единственной черной дверью. Были ли на этом этаже другие комнаты? Очевидно, нет. Однако, если здесь кто-нибудь есть, возможно, он скажет мне, где найти Адельму. Во всяком случае, такая вероятность существовала.
Дойдя до двери, я приник к ней ухом и несколько секунд прислушивался, но не услышал ничего, кроме слабых шуршащих и скрипящих звуков. Я мягко постучал по твердой лакированной поверхности. Нет ответа. Я постучал снова. Потом в третий раз, посильнее.
— Я слышал тебя, я слышал! — раздался голос изнутри.
Взявшись за латунную ручку, я медленно повернул ее, потом приоткрыл дверь дюймов на шесть. Из комнаты лился тусклый свет.
— Можно войти? — спросил я.
— Ты математик?
— Нет.
— Философ?
— Нет, не философ.
— Ты отвергаешь поиски вселенской мудрости?
— Я считаю это ерундой.
— Что делает тебя философом.
— Правда? В таком случае…
— Ты физик, биолог, теолог, астроном, астролог, френолог или картограф?
— Боюсь, что никто из вышеперечисленных.
— Не бойся, это хорошо.
— Почему?
— Потому что я — все они, и если бы ты тоже был кем-то из них, то нахождение нас двоих в одной комнате привело бы к тому, что межпространственный атомный фундамент взорвался. Я в этом абсолютно уверен!
— Исходя из моего опыта, — печально заметил я, — нельзя быть абсолютно уверенным в чем бы то ни было.
— А в этом ты уверен? — спросил голос.
Я уже несколько раз вел такой диалог, по крайней мере, один раз — в поезде, но прежде чем мне удалось придумать ответ, голос добавил:
— В таком случае, можешь войти.
Огромная комната выглядела так, словно межпространственный атомный фундамент уже взорвался или здесь порезвились сумасшедшие коровы графа Вильгельма. Там царил полный, ужаснейший хаос: везде валялись книги, рукописи, листы бумаги, журналы и блокноты; пару опрокинутых стульев так и не удосужились поднять; на каждой подходящей поверхности торчали самодельные подсвечники со свечными огарками; в темных углах лежала скомканная, грязная, засыпанная крошками одежда — носки, нижнее белье, жилеты, рубашки; повсюду красовались остатки старых завтраков, обедов и ужинов, в том числе надкушенная отбивная, покрытая пылью и зеленым налетом. Плотные шторы были опущены, и за сплошь покрытым мусором столом напротив окна восседал высокий костлявый мужчина с длинными, падающими на плечи прямыми седыми волосами и седой козлиной бородкой. На его носу были очки с толстыми линзами, а одет он был в потрепанный запачканный балахон. Несколько раз мигнув, мужчина уставился на меня.
— Кто ты такой? — спросил он слегка дрожащим и отнюдь не слегка безумным голосом.
— Не знаю.
— Хорошо. Это отличное начало. Одно из лучших, на самом деле. Почему на тебе ночная рубашка?
— Я лежал в постели.
— Это не тот ответ, что мне нужен.
— Почему?
— Потому, что он просто означает, что, как и предполагается, ты лежишь в постели в ночной рубашке. Но не объясняет, почему ты сейчас в ней. Это все равно, что выйти голым на улицу и на вопрос «почему?» ответить, что ты принимал душ.
— Я забыл одеться.
— Уже лучше.
Кивнув, он протянул мне свою длинную, тонкую, клешнеобразную руку — и тотчас отдернул ее.
— Я — профессор Бэнгс, — представился он.
— Я слышал о вас.
— Откуда?
— Граф упоминал. Он сказал, что вряд ли мы встретим вас, потому что вы сейчас очень заняты своим великим трудом.
— Я всегда занят своим великим трудом. Не просто в какое-то определенное время, а всегда.
— Могу я сесть? — спросил я.
— А ты видишь что-нибудь, на что можно сесть? Я беспомощно огляделся.
— Думаю, нет.
— Значит, тебе придется постоять. Я занимаюсь великим делом. И беспорядок меня не волнует, господин… Э-э-э… Как мне тебя называть?
— Хендрик вполне сойдет.
— Хорошо, Хендрик. О, вовсе нет! Видишь ли, я привык к беспорядку. Двадцать лет тому назад эта комната сверкала чистотой, была незапятнанной и опрятной — ни пылинки! Боюсь, что просто не смогу вернуться в те времена, мои нервы не вынесут. Я знаю, что где лежит, хотя тебе этот бедлам может казаться настоящей помойкой. Хорошо осведомлённый человек видит порядок в беспорядке. Это так называемый Бесконечный Вариабельный Фактор.
— И кто его так назвал?
— Я. Тебе нравится?
— Я не понимаю, что это означает.
— Чтобы любить что-то, вовсе незачем понимать, что оно означает. Тебе нравятся жареные цыплята?
— Я бы предпочел не говорить о еде, если вы не возражаете. Но — да, нравятся.
— А ты понимаешь, что это означает?
— Жареные цыплята? По-моему, ничего!
— Ага! — воскликнул профессор Бэнгс, выпрыгивая из кресла и указывая костлявым, трясущимся пальцем в потолок. Я был очень удивлен. — Ты уловил ее!
— Уловил что?
— Самую суть, ключевой вопрос моего великого труда, конечно же! Имеют ли вещи значение? Значит ли что-то хоть что-нибудь?
Сгорбившись, профессор начал возбужденно бегать по комнате. Он был похож на высокую тощую птицу. Я осторожно опустился на стопку книг в кожаных переплетах.
— Это, — продолжал профессор Бэнгс, — тот вопрос, что занимал меня на протяжении стольких лет! Я убедился — и настаиваю на этом убеждении — что, прежде чем найти ответ, нужно создать теоретическую карту, или карту теории, как тебе больше нравится, каждой философской, психологической, математической и тому подобных систем, когда-либо созданных для объяснения вещей; потом свести их в одно неизбежно огромное и сложное целое и подогнать друг к другу, как кусочки гигантской мозаики. Получившаяся картина, как я решил, и будет ответом на мой вопрос, вопрос всех вопросов. Однако она должна быть совершенно законченной, без внутренних противоречий или пробелов. Я решил выбросить из нее теологию и Бога, потому что, если не рассматривать определенные разделы философии, в любом случае противоречащие друг другу, психологическая, математическая и другие научные мысли отвергают и то, и другое как непригодное и абсолютно ненужное. Это сделало мою задачу, и без того ужасающе запутанную, немного проще. Хотя «проще» — не то слово, которое я бы применял по отношению к любому ее аспекту!