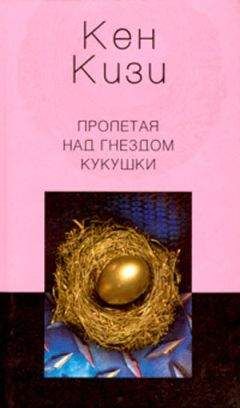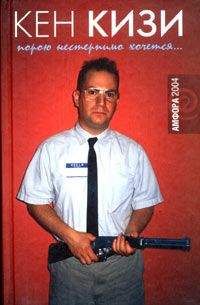Кен Кизи - Пролетая над гнездом кукушки (One Flew Over the Cuckoo’s Nest)
(Гончая лает в тумане, она заблудилась и мечется в испуге, оттого что не видит. На земле никаких следов, кроме ее собственных, она водит красным резиновым носом, но запахов тоже никаких, пахнет только ее страхом, который ошпаривает ей нутро, как пар.) И меня ошпарит так же, и я расскажу наконец обо всем – о больнице, о ней, о здешних людях… И о Макмерфи. Я так давно молчу, что меня прорвет, как плотину в паводок, и вы подумаете, что человек, рассказывающий такое, несет ахинею, подумаете, что такой жути в жизни не случается, такие ужасы не могут быть правдой. Но прошу вас. Мне еще трудно собраться с мыслями, когда я об этом думаю. Но все – правда, даже если этого не случилось.
Когда туман расходится и я начинаю видеть, я сижу в дневной комнате. На этот раз меня не отвели в шоковый шалман. Помню, как меня вытащили из брильни и заперли в изолятор. Не помню, дали завтрак или нет. Наверно, нет. Могу припомнить такие утра в изоляторе, когда санитары таскали объедки завтрака – будто бы для меня, а ели сами – они завтракают, а я лежу на сопревшем матрасе и смотрю, как подтирают яйцо на тарелке поджаренным хлебом. Пахнет салом, хрустит у них в зубах хлеб. А другой раз принесут холодную кашу и заставляют есть, без соли даже.
Нынешнего утра совсем не помню. Насовали в меня столько этих штук, которые они называют таблетками, что ничего не соображал, пока не услышал, как открылась дверь в отделение. Дверь открылась – значит, время восемь или девятый, значит, провалялся без памяти в изоляторе часа полтора, техники могли прийти и установить что угодно по приказу старшей сестры, и я даже не узнаю, что!
Слышу шум у входной двери, в начале коридора, отсюда не видно. Эту дверь начинают открывать в восемь, открывают-закрывают по сто раз на дню, тыр-тыр, щелк. Каждое утро после завтрака мы рассаживаемся вдоль двух стен в дневной комнате, складываем картинки-головоломки, слушаем, не щелкнет ли замок, ждем, что там появится. Больше-то и делать особенно нечего. Иногда один из молодых врачей, живущих при больнице, приходит пораньше посмотреть на нас до приема лекарств – дпл у них называется. Иногда жена кого-нибудь навещает, на высоких каблуках, сумочку притиснув к животу. Иногда этот дурачок по связям с общественностью приводит учительниц начальной школы; он всегда прихлопывает потными ладошками и говорит, как ему радостно от того, что лечебницы для душевнобольных покончили со старорежимной жестокостью: «Какая душевная обстановка, согласитесь!» Учительницы сбились в кучку для безопасности, а он вьется вокруг, прихлопывает ладошками: «Нет, когда я вспоминаю прежние времена, грязь, плохое питание и, что греха таить, жестокое обращение, я понимаю, дамы: мы добились больших сдвигов!» Кто бы ни вошел в дверь, это всегда не тот, кого хотелось бы видеть, но надежда всегда остается, и, только щелкнет замок, все головы поднимаются разом, как на веревочках.
Сегодня замки гремят чудно, это не обычный посетитель. Голос сопровождающего, раздраженный и нетерпеливый: «Новый больной, идите распишитесь». И черные подходят.
Новенький. Все перестают играть в карты и «монополию», поворачиваются к двери в коридор. В другой день я бы сейчас мел коридор и увидел, кого принимают, но сегодня, я вам объяснял уже, старшая сестра насовала в меня сто килограммов, и я не в силах оторваться от стула. В другой день я бы первым увидел новенького, посмотрел бы, как он просовывается в дверь, пробирается по стеночке, испуганно стоит, пока санитары не оформят прием; потом они поведут его в душевую, разденут, оставят, дрожащего, перед открытой дверью, а сами с ухмылкой забегают по коридорам, разыскивая вазелин. «Нам нужен вазелин, – скажут они старшей сестре, – для термометра». А она то на одного глянет, то на другого: «Не сомневаюсь, что нужен, – и протянет им банку чуть ли не в полведра, – только смотрите не собирайтесь там все вместе». Потом я вижу в душе двоих, а то и всех троих, вместе с новеньким, они намазывают термометр слоем чуть ли не в палец толщиной, припевая: «О так от, мама, о так от», – потом захлопывают дверь и включают все души, чтоб ничего не было слышно, кроме злого шипения воды, бьющей в зеленые плитки. Чаще всего я в коридоре и все вижу.
Но сегодня сижу на стуле и только слышу, как его приводят. И хотя ничего не видать, чувствую, что это не обычный новенький. Не слышу, чтобы он испуганно пробирался по стеночке, а когда ему говорят о душе, не подчиняется с робким, тихим «да», а сразу отвечает зычным смелым голосом, что он и так довольно чистый, спасибо, черт возьми.
– С утра меня помыли в суде и в тюрьме вчера вечером. В такси сюда промыли бы до дыр, ей-богу, если бы душ там нашли. Эх, ребята, как меня куда-нибудь переправлять, так драют и до, и после, и во время доставки. Да отвали со своим градусником, Сэм, дай хоть оглядеться в новой квартире. Сроду не был в институте психологии.
Больные озадаченно смотрят друг на друга и опять на дверь, откуда доносится голос. А говорит зачем так громко – ведь черные ребята рядом? Голос такой, как будто он над ними и говорит вниз, как будто парит метрах в двадцати над землей и кричит тем, кто внизу. Сильно говорит. Слышу, как идет по коридору, и идет сильно, вот уж не пробирается; у него железо на каблуках и стучит по полу, как конские подковы. Появляется в дверях, останавливается, засовывает большие пальцы в карманы, ноги расставил и стоит, и больные смотрят на него.
– С добрым утром, ребята.
Над его головой висит на бечевке бумажная летучая мышь – со дня всех святых; он поднимает руку и щелчком закручивает ее.
– До чего приятный осенний денек.
Разговором он напоминает папу, голос громкий и озорной; но сам на папу не похож: папа был чистокровный колумбийский индеец, вождь – твердый и глянцевый, как ружейный приклад. А этот рыжий, с длинными рыжими баками и всклокоченными, давно не стриженными кудрями, выбивающимися из-под шапки, и весь он такой же широкий, как папа был высокий, – челюсть широкая, и плечи, и грудь, и широкая зубастая улыбка, и твердость в нем другая, чем у папы, – твердость бейсбольного мяча под обшарпанной кожей. Поперек носа и через скулу у него рубец – кто-то хорошо ему заделал в драке, – и швы еще не сняты. Он стоит и ждет, но никто даже не подумал ему отвечать, и тогда он начинает смеяться. Всем невдомек, почему он смеется: ничего смешного не произошло. А смеется не так, как этот, по связям с общественностью, – громко, свободно смеется, весело оскалясь, и смех расходится кругами, шире, шире, по всему отделению, плещет в стены. Не ватный смех по связям с общественностью. Я вдруг сообразил, что слышу смех первый раз за много лет.
Он стоит смотрит на нас, откачиваясь на пятки, и смеется, заливается. Большие пальцы у него в карманах, а остальные он оттопырил на животе. Я вижу, что руки у него большие и побывали во многих переделках. И больные и персонал, все в отделении, ошарашены его видом, его смехом. Никто и не подумал остановить его или что-нибудь сказать. Насмеявшись вдоволь, он входит в дневную комнату. Теперь он не смеется, но смех еще дрожит вокруг него, как звук продолжает дрожать в только что отзвонившем большом колоколе, – он в глазах, в улыбке, в дерзкой походке, в голосе.
– Меня зовут Макмерфи, ребята, Р. П. Макмерфи, и я слаб до картишек. – Он подмигивает, запевает: – …И стоит мне колоду увидать, я денежки на стол мечу… – И опять смеется.
Потом подходит к какой-то кампании картежников, толстым грубым пальцем трогает карты у одного острого, смотрит в них, прищурясь, и качает головой.
– Ага, за этим я и прибыл в ваше заведение – развлечь и повеселить вас, чудаки, за картежным столом. На пендлтонской исправительной ферме уже некому было скрасить мне дни, и я потребовал перевода, понятно? Хо-хо, ты смотри, как этот гусь держит карты – всему бараку видно. Я обстригу вас, ребята, как овечек.
Чесвик сдвигает свои карты. Рыжий подает ему руку.
– Здорово, друг, во что играем? В «тысячу»? То-то ты не очень стараешься прятать карты. У вас тут не найдется нормальной колоды? Тогда поехали – я свою захватил на всякий случай, в ней не простые картинки… Да вы их проверьте, а? Все разные. Пятьдесят две позиции.
У Чесвика и так вытаращены глаза, и от того, что он сейчас увидел, лучше с ним не стало.
– Полегче, не мусоль; у нас полно времени, наиграемся вдоволь. Я почему люблю играть своей колодой – не меньше недели проходит, пока другие игроки хотя бы масть разглядят.
На нем лагерные брюки и рубаха, выгоревшие до цвета снятого молока. Лицо, шея и руки у него темно-малиновые от долгой работы в поле. В волосах запуталась мотоциклетная шапочка, похожая на черный капсюль, через руку переброшена кожаная куртка, на ногах башмаки, серые, пыльные и такие тяжелые, что одним пинком можно переломить человека пополам. Он отходит от Чесвика, сдергивает шапочку и выбивает ею из бедра целую пыльную бурю. Один санитар вьется вокруг него с термометром, но его не поймаешь: только негр нацелился, как он влезает в кучу острых и начинает всем по очереди пожимать руки. Разговор его, подмигивание, громкий голос, важная походка – все это напоминает мне автомобильного продавца, или скотного аукционщика, или такого ярмарочного торговца – товар у него, может, и не главный, и стоит он сбоку, но позади него развеваются флаги, и рубашка на нем полосатая, и пуговицы желтые, и все лица поворачиваются к нему, как намагниченные.