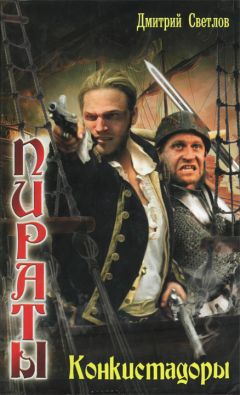Дорота Масловская - Польско-русская война под бело-красным флагом
Я просыпаюсь. Слепой, глухой, немой, как огромный крот, вытащенный из-под земли, зарывшийся в окровавленный диван. Словно полуживой, будто меня засунули в спичечный коробок и закрыли там. Короче, глючит. Отовсюду звенит. Звук стерео. Остальное моно. Кажется, что все, чего никогда не было, теперь есть и сидит у меня в голове. Все, чего никогда не было. Вся пустота. Все молчание как кто-то третий лишний. Вся вата мира. Весь суррогат и весь пенопласт, засунутый кем-то в мою голову. За ночь я прибавил в весе. Я такой тяжелый, что сам себя не могу поднять на ноги. Насыщенный раствор. Как будто я запутался в шторах, как будто я запутался в собственной куртке и не могу выпутаться, засунул башку в рукав и не могу ее оттуда вытянуть.
Как будто эта Анжела в меня, а не в диван истекла своими внутренностями, и я теперь лежу опухший, удвоившийся, двойное сердце с обеих сторон, двойная печень, шесть почек и несколько кирпичей.
А когда я встаю ближе к обеду, то думаю, почему это мать не вернулась еще из фирмы «Цептер». Хотя, может, она звонила, но мне ничего про это неизвестно. Интересно, почему я не поднимал трубку. Ни фига не могу вспомнить. Интересно, что происходит, может, я уже один живу в этом городе, потому что весь род людской вымер как жанр. И когда я так стою, передо мной раскидывается вид на нашу квартиру, выдержанный в стиле батальной живописи, пейзаж после битвы. Интересно, может, война в мое отсутствие уже закончилась, может, пока я дрых, тут была решающая битва, главный штаб. Пока я спал, русские вломились в квартиру, ворвались, перевернули все вверх дном прикладами, перестреляли на картинах пейзажи с водопадами, подсолнечники, особенно досталось кожаным часам. Скинули с холодильника голубую пластмассовую фигурку Божьей Матери, памятный сувенир из культовой базилики в Лихени, головка отвалилась, святая вода запачкала паркет. Натоптали в ванной, всю плитку загадили. Всех женщин, какие попались под руку, изнасиловали прямо на диване, устроили здесь себе главный штаб, комитет по делам траха. Привели лошадей, сожрали все птичье молоко, выкурили все сигареты, засрали все кругом и адью, до встречи в следующей жизни в Белоруссии. Моего братана и мать забрали в плен. Меня, скорее всего, убили, потому что у меня такое впечатление, что я избит насмерть каким-то тяжелым предметом, потому что внутри головы я еще слышу далекое эхо этих ударов и выстрелов. Но почему меня, ведь у моей матери был с ними неплохой бизнес, сайдинг, панели, «цептер». Почему же именно меня, почему они били меня по башке так долго, что я до сих пор ощущаю в ней вкус железа, кучу железного лома, слышу, как крутятся вокруг собственной оси шестеренки. Где они были, когда Магда высказывала свои взгляды против них и открыто вела антирусскую идеологию?
Но что-то изменилось, это я констатирую, как только распахиваю настежь вертикальные жалюзи. Мир вылез из формочки. Зажравшееся, как паразит на теле нашего общества, солнце стало больше. Жирнее. Бьет по глазам. Беспощадно. Целится прямо в меня, светит мне прямо в глаза, почти как настоящая гестаповская лампа: говори, Сильный, признавайся, будешь еще грешить, а не признаешься, мы сейчас крутанем ручку до отказа, и ты сдохнешь от этого убийственного, шипящего света, который уже лижет тебя белыми язычками пламени. Шнур жалюзи скрипит. Занавес разъезжается. Представление начинается. Вот это шоу, я такого в жизни не надеялся увидеть. Потому что таких спектаклей просто не бывает. Нигде на свете и вообще в природе. Я не могу поверить во что вижу. Я в таком шоке, что хочу высунуться из окна, потому что мои глаза не хотят открываться, и гляжу я только через щелки, а все остальное тонет во мраке. Ну, и в результате врубаюсь башкой в стеклопакетное окно, в результате чего раздается какое-то эхо, какой-то резонанс, грохот ужасный, из-за которого вдруг делается еще светлее. И вот еще что я хотел сказать: что-то случилось с моими глазами, о чем я уже говорил, за ночь они заросли какой-то дополнительной дармовой кожей, и вижу я, в общем, хреново, но то, что мне видно, вижу. И то, что я теперь вижу, это явно никакой не глюк, и не мультик, и не повтор любимой телепередачи по письмам телезрителей, а самое настоящее шоу прямо из жизни, реалити-шоу.
Так вот, вдруг ни с того ни с сего в мире пропал цвет. Нет его. Полное отсутствие присутствия. Ночью кто-то спер все цвета радуги. Или еще что-то случилось. Может, цвета поблекли от частой стирки. Поблекли до полного уничтожения. Может, кто-то выстирал этот пейзаж, этот вид из окна, в автоматической стиралке не в том, что надо, порошке. Моя мамашка тоже мне как-то устроила такую передрягу с джинсами. Сегодня нормальные голубые джинсы, а назавтра уже совсем белые, белые ливайсы с белой лейбой без буковок. Я тогда просто взбесился, потому что в моей тусовке мне была бы просто хана, что, Сильный, к причастию собрался, опоздал, служба закончена, причастие уже съели, иди домой, до встречи в следующем году.
Ладно, штаны это чепуха. Проехали. Но одно я вам точно скажу. Не знаю, как они это сделали, кислотный дождь там или еще чего, может, экологическая катастрофа цистерны с отбеливателем, а может, ДТП у Левого, когда он ехал на своем «гольфе», набитом амфой. Но все дома снаружи белые. Типа известью или еще какой гадостью покрашенные. Соседский дом, этих, что кучу бабла зашибали на махинациях с левыми машинами, которые русские привозили, вдруг до половины тоже белый от самого верха. До половины. Всё до половины белое. В основном половины домов. А то, что внизу, улица, там, блин, красное. Все как есть. Бело-красное. Сверху вниз. Наверху польская амфа, внизу польская менструация. Наверху импортированный с польского неба польский снег, внизу польский профсоюз польских мясников и колбасников.
И куда ни глянь, везде какая-то оранжевая бригада мельтешит с ведрами краски, с валиками, на ветру лопочут бело-красные сигнальные ленты, чтоб вороны не садились и на свежую краску не срали. Машины, сирены, какие-то приспособления, строительные леса, дурдом, ну, дурдом на колесиках, больной город, спутники уже могут фотографировать его на память из космоса, паранойя.
И когда я все это вижу, р-раз за шнурок и вертикальные жалюзи опять назад заслоняю, даже шнурок со зла оборвал. Потому что смотреть на это — извините-подвиньтесь. И не уговаривайте, я эту порнуху с бело-красными животными и бело-красными детьми, которую снимают под моим окном дегенераты из городских служб за наши же налоги, смотреть отказываюсь. Ну, может, не за мои налоги. Но за налоги моей матери, хотя я ее давно уже не видел. Может, я и перебрал чуток амфы, раз у меня теперь даже с веком проблемы: то оно отлипает, и тогда я вижу все, то опадает, и тогда все, что я вижу, это моя кожа изнутри. Она там черная, и это все, что я вижу. Только не надо мне втюхивать, что город перекрашен в цвета нашей национальной сборной по футболу из-за меня, что это мой личный глюк, что это у меня амфа внутри ферментирует и на почве ломки крыша поехала. Не надо ля-ля. Потому что, как только я захлопнул жалюзи, все снаружи назад стало пучком. Я вздыхаю с облегчением и бегу закрыть на двойной замок автоматическую дверь «Герда». Чтобы эти бивни не ворвались ко мне внутрь, ведь как пить дать заляпают известкой весь дом, испортят мебельную стенку, ковролин, вертикальные жалюзи. Это будет конец. Изабелла этого не переживет. Кессоны там всякие на потолке только что контрабандой привезены через Тересполь. А тут вдруг офигительный красный цвет, под цвет ее губной помады, она бы могла лежать вечером с зеркальцем и проверять, подходит оттенок или нет. Они сюда не войдут, и точка, иначе им придется пройтись по моему трупу и тщательно затоптать меня в ковровое покрытие, чтоб легче было закрасить, чем отодрать. Я даже вдруг чувствую себя счастливым человеком и подумываю, не дать ли Суне пожрать. Потому что она чего-то перестала скулить. Но потом меня осеняет другая мысль, что для этого мне понадобится выйти наружу, и опять начнется эта фата-моргана, эта бело-красная зараза, расползающаяся по городу как оспа. Уж лучше я сяду. Потому что по квартире лучше не ходить, а то можно запачкаться о ковровое покрытие. Я осматриваюсь. Надо признаться, что думать я в это время не думаю, во всяком случае, думаю не слишком интенсивно. Можно даже сказать, все пропускаю мимо внимания, потому что как раз сижу. Сижу. Моя голова живет своей отдельной, собственной жизнью. Там какая-то тусовка, звонят телефоны, передают радиопередачи из Варшавы и из Москвы одновременно, горят огни, электричка ездит до самого Китая, въезжает в одно ухо, выезжает из другого и давит по дороге всё подряд. Все мои мысли и чувства.
И тут вдруг в один момент доходит до меня вся моя жизнь, раскинувшаяся кругом как послевоенный пейзаж с окровавленным диваном, с пятнами крови на моих штанах. Из пятен получается какая-то настольная игра, где все тропинки засохшей крови однозначно ведут в ад, притаившийся в моей ширинке. Белые пятна на ковре остались от Магды, когда она сплевывала зубную пасту, а красные от Анжелы, которая тут от меня бегала и в результате загадила мне всю комнату. Прямо дождь из фантиков от конфет прошел, дождь камней и молочных зубов, будто Анжела, перед тем как отправиться в ад, вытряхнула по всей комнате свою сумочку.