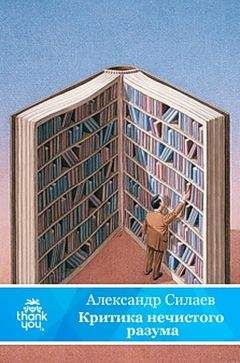Александр Силаев - Рассказы
Вежливый Фердинанд полез за бумажником. Возничий взял деньги, поплевал на них и сунул в пыльный сапог, лежащий на переднем сиденьи.
— Эх, сиренево-зелено, мое дело самовар, — затянул он старую слащавую песню и двинул куда-то в степь.
Фердинанд решительно направился к мэрии.
Дом стоял двухэтажным. Внизу спали. Наверху сидел неумытый человек лет сорока и мутными глазами обводил мир.
— Ты кто? — спросил он с отвращением.
Мой знакомый представился.
— А на хрен? — поинтересовался неумытый.
— Можно где-то жить? — спросил он совсем безнадежно.
— Это к уряднику, — неопределенно махнул рукой человек.
— А по-другому?
— Щас я тебе соберу Совет Старост, щас, только жди, — зло ощерился неумытый.
— Извините, вы кто?
— Младший подкомиссар, — назвался он. — Я тут один борюсь, остальные, бля, воруют.
— А если я вам денег дам?
— Ну дай, отчего не дать, — обрадовался подкомиссар. — Деньги чистоту любят.
— А комнату найдете?
— В обход закона захотел, да? Захотел, твоя рожа? — заорал он. — Ну дам. Ладно, сказал, не плачь. Кому сказал, сука, не смей плакать!
Подкомиссар взял его за руку и потащил в подсобные помещения. Они спустились на пару этажей ниже, хоть и был домина вроде как двухэтажный. Значит, подвал, догадливо решил Фердинанд. Младший подкомиссар открыл тремя ключами массивную железную дверь. Прошли по коридору. Свернули направо. Прошли двадцать шагов. Свернули налево. Прошли еще какое-то расстояние. Никуда не сворачивали. Пинком неумытый открыл еще одну дверь. Фердинанд понял, что здесь обычно расстреливают.
— Я не буду! — закричал он.
— Что?
— Ничего, — мужественно сказал Фердинанд.
Он уже стал спокоен, он внутренне приготовился принять все, даже смерть, даже то, что, наверное, хуже смерти, если такое есть (должно быть). Он был готов принять и жизнь во всей ее полноте. Он готов был драться с младшим подкомиссаром. И победить. А если проиграть, то нормально, со смехом, без слез и без слов.
— Будешь здесь жить, — лениво сказал подкомиссар и зашагал прочь.
— Спасибо, — ответил Фердинанд.
На следующий день он начал готовить встречу с народом. Он уже понял, как обстояли дела: Совет Старост, урядники и подкомиссары отобрали у населения власть. Они держат массы в темноте и невежестве, а сами отсыпаются в гаремах и гоняют по окрестным полям на птицах-тройках. Поселковую библиотеку сменяли на кусок золота, распилили на семерых и не поделились, — об этом прискорбном случае знали все, включая малых детей. Несправедливо, думал Фердинанд. Надо бороться? Но был он начитан и знающ, и слыхал где-то краем левого уха, чем кончаются революции. Да тем же самым. Мы пойдем другим путем, твердил он заветную фразу, марширую из угла в угол. Целых восемь шагов по диагонали. Не поскупился на жилплощадь младший подкомиссар.
Другой путь был труден, потен, и наверняка через тернии вел в направлении звезд. За очередную взятку Совет Старост согнал ему народец на митинг.
Дело было на площади. За пять банок неместного пива мужики сколотили ему маленькую трибуну из пустых ящиков. Трибуна рассыпалась в прах, но хоть чем-то отличалась от пустого места.
— Друзья, — начал Фердинанд свою лучшую речь. — Я хочу константировать факт, что каждый из вас нуждается в дополнительном образовании.
Из первых рядов залаяли собаки. Он не понял, что это значит, и он продолжал:
— Внешние факторы таковы, что реальность настоятельно требует новой модели личности. Понимание онтологических статусов с учетом общей направленности эгалитарных тенденций прямо указывает нам необходимый вектор развития. Цивилизационное пространство эволюционирует таким образом, что градуирует сознание в зависимости от рангов информации, перерабатываемой субъектом. Само информационное поле расширяется, но механизмы сознания блокированы в силу ряда причин. Уже сейчас можно классифицировать субьектов, причем принцип отбора будет прямо пропорционален коэффициенту системной встроенности.
— Он о…л, что ли? — предположил смурной мужик в затруханной кепочке.
— В натуре, бля, — поддержал смурного юноша лет пятнадцати.
Бабы начали креститься. Степаныч сплюнул! А это серьезно: если сам Степаныч сплюнул, бывать беде. И тут не отмажешься, Степаныч — сила.
— Друзья, я вижу неадекватное, — забеспокоился Фердинанд. — Я прогнозировал, что определеные процессы могут оказаться запущены, но не в таком виде.
— Да он хрен эсэсовский! — крикнул кто-то, и все его поддержали.
Наверное, здесь много глупых людей, догадливо предположил мой товарищ. Наверное, надо отделить овец от козлищ. Наверное, только так. Он успел сказать, что с завтрашнего дня школа народного просвещения открывает двери для всех желающих. И сбежал прочь, подальше от затруханных кепок. Те же с уханьем расхреначили трибуну на несчастные досточки. Раззудись, плечо!
Кому надо, придет, решил он. Будем с ними пить чай, водить хороводы, говорить об умных вещах, заниматься теизмом и пантеизмом, спорить о Канте и Шопенгауэре, помнить Сартра и изучать Ницше, а потом займемся квантовой механикой, а может, йогой, а может, дзэном, а может, еще чем, а может, найдется умная и красивая девушка, полюбит меня, будет у нас куча детей и полвека вместе, — так думал Фердинанд. А мои ученики, думал он, расплодяться на всех кафедрах мира.
Что думал, то и написал. Положил в конверт, запечатал и отправил мне с пометкой: «первое письмо из провинции». Жди, мол, второго, пятого и сто сорок первого. Он обещал писать едва ли не ежедневно, но я знал Фердинанда и понимал, что в лучшем случае послание будет сваливаться на меня раз в месяц.
На предпоследние деньги он снял у Совета пресловутых Старост бывшую избушку под классное помещение. Лежал на соломе и лениво гонял мыслишки. Неожиданно пришли ученики с ломиками. И побили учителя, чтоб тому, падле очкастому, неповадно было.
Забитый Фердинанд лежал на соломе и мужественно думал о смысле жизни. Мир менялся на глазах. Непонятное надо было осознать, прокрутить в себе, прийти к новым выводам. Полежать сутки в недеянии и переосмыслить. Времени хватает, он образован и способен понять. Однако ночью избушку подожгли, и хороший в принципе человек сгорел вместе с домашней утварью.
Как стать национальным героем?
Стать национальным героем не так уж трудно.
Иван Ратоборов стал им только по двум причинам: во-первых, он никогда не носил с собой часов, во-вторых, он был сумасшедшим. Вот и все. То, что он жил в картонной коробке на острове, а промышлял собиранием бутылок, окурков и недожеванных хлебных корок, к его восхождению почти не относится. Для великого успеха достаточно быть сумасшедшим, не носящим с собою часов.
Он мог их если не купить, то украсть. Так легко ударить бутылкой по голове любого прохожего, а затем снять часы с лежащего и неподвижного. Подобная авантюра не составляет труда, тем более для него: Ратоборов всегда ударял бутылкой, когда нечего было есть (двоих невзначай убил, но это тоже не касается будущей славы). Однако он никогда не снимал часов. Ему нравилось жить без них. Ему нравилось ходить по улицам от рассвета до полуночи и спрашивать у прохожих «который час?»
Когда просьбу выполняли, Ратоборов говорил благодарное «пожалуйста» и шел дальше успокоенный и счастливый. Однако через полчаса беспокойство начинало томить: оно росло, закипало и становилось раздирающе невыносимым. Тогда он останавливал очередного мимо идущего и задавал вопрос. Если ему сообщали время, он опять говорил «пожалуйста», а если не отвечали, то секундно зверел. Он сразу бил человека ногами в живот, не дожидаясь от него извинений. Когда человек падал, Ратоборов вставал ему правой ногой на горло. А если он видел, что вокруг начинала собираться толпа, то стремительно убегал. Так он прожил в безвестности около года.
Но однажды случился ясный весенний день, когда он шел, не чувствуя земли под ногами и неба над головой. Он шел сам не свой и сам непонятно чей, опьяненный, как алкоголик, но Ратоборов не пил — он был двинут в голову наступившей весенней погодкой. Ах, думал он. Ох, думал он. Вашу мать, думал он. И еще многое думал он. Он любил поразмыслить, родившись философом картонной коробки, хотя многие не понимали его, называли паршивым псом, а самые безжалостные сограждане без сочувствия травили его ментами.
Но он явился на свет гордой личностью и обладателем сильной фамилии Ратоборов. В детстве его мало понимали и за фамилию звали боровом. Теперь звали по-другому, а он не обращал на слова внимания, потрясенный явлением Весны до глубины своей бесхитростной и детской души. Так он шел по талому снегу и не знал, что сегодня дойдет до Истории в хорошем понимании этого слова. На языке обывателей разбить голову об асфальт — тоже в некотором роде попасть в историю… Но Ратоборова, как мы помним, ждало настоящее.