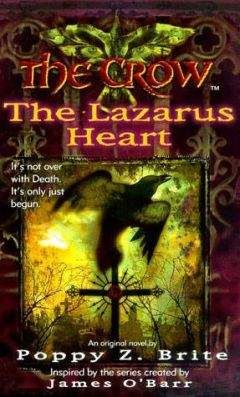Владимир Сорокин - Норма. Тридцатая любовь Марины. Голубое сало. День опричника. Сахарный Кремль
– Гойда! Гойда! – бормочут опричники, отворачиваясь.
Важное дело.
Нужное дело.
Хорошее дело.
Без этого дела наезд — все одно, что конь без наездника… без узды… конь белый, конь… красивый… умный… завороженный… конь… нежный конь-огонь… сладкий… сахарный конек без наездника… и без узды… бес узды… с бесом белым… с бесом сладким… с бесом сахарной узды… с бесом сахарной узды… с бесом сахарной узды… с бесом сахарной узды… даляко ли до пя-а-а-а-а-а-аааааазды-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!
Сладко оставлять семя свое в лоне жены врага государства.
Слаще, чем рубить головы самим врагам.
Вываливаются нежные пальчики вдовицы у меня изо рта.
Цветные радуги плывут перед глазами.
Уступаю место Посохе. Уд его со вшитым речным жемчугом палице Ильи Муромца подобен.
Оха-ха… жарко натоплено у столбового. Выхожу из дома на крыльцо, сажусь на лавку. Детишек уж увезли. От скотника побитого-подрезанного на снегу только кровавые брызги остались. Стрельцы топчутся вокруг ворот с повешенным, разглядывают. Достаю пачку «Родины», закуриваю. Борюсь я с этой привычкой дурной, басурманской. Хоть и сократил число сигарет до семи в сутки, а бросить окончательно – силы нет. Отец Паисий отмаливал, велел покаянный канон читать. Не помогло… Стелется дымок по ветерку морозному. Солнце все так же сияет, со снегом перемигивается. Люблю зиму. Мороз голову прочищает, кровь бодрит. Зимой в России дела государственные быстрей вершатся, спорятся.
Выходит Посоха на крыльцо: губищи раскатаны, чуть слюна не капает, глаза осовелые, уд свой багровый, натруженный никак в ширинку не заправит. Стоит раскорякой, оправляется. Из-под кафтана книжка вываливается. Поднимаю. Открываю – «Заветные сказки». Читаю зачин вступительный:
В те стародавние времена
на Руси Святой ножей не было,
посему мужики говядину хуями разрубали.
А книжонка – зачитана до дыр, замусолена, чуть сало со страниц не капает.
– Что ж ты читаешь, охальник? – шлепаю Посоху книгой по лбу. – Батя увидит – из опричнины турнет тебя!
– Прости, Комяга, бес попутал, – бормочет Посоха.
– По ножу ходишь, дура! Это ж похабень крамольная. За такие книжки Печатный Приказ чистили. Ты там ее подцепил?
– Меня в ту пору в опричнине еще не было. У воеводы того самого в доме и притырил. Нечистый в бок толкнул.
– Пойми, дурак, мы же охранная стая. Должны ум держать в холоде, а сердце в чистоте.
– Понимаю, понимаю… – Посоха скучающе чешет под шапкой свои чернявые волосы.
– Государь ведь слов бранных не терпит.
– Знаю.
– А знаешь – сожги книгу похабную.
– Сожгу, Комяга, вот те крест… – Он размашисто крестится, пряча книжку.
Выходят Нагул и Охлоп. Покуда дверь за ними затворяется, слышу стоны вдовы столбового.
– Хороша стервь! – Охлоп сплевывает, заламывает на затылок мурмолку.
– Не укатают ее до смерти? – спрашиваю, гася окурок о скамью.
– Не, не должны… – Широколицый улыбчивый Нагул сморкается в кем-то любовно расшитый белый платок.
Вскоре появляется Зябель. После круговухи он всегда взволнован и многословен. Зябель, как и я, с высшим образованием, университетский.
– Все-таки как славно сокрушать врагов России! – бормочет он, доставая пачку «Родины» без фильтра. – Чингисхан говорил, что самое большое удовольствие на свете – побеждать врагов, разорять их имущество, ездить на их лошадях и любить их жен. Мудрый был человек!
В пачку «Родины» лезут пальцы Нагула, Охлопа и Зябеля. Достаю свое огниво фасонное, холодного огня, даю им прикурить:
– Что-то вы все на чертово зелье подсели. Знаете, что табак навеки проклят на семи камнях святых?
– Знаем, Комяга, – усмехается Нагул, затягиваясь.
– Сатане кадите, опричники. Дьявол научил людей курить табак, дабы люди воскурения делали ему. Каждая сигарета – фимиам во славу нечистого.
– А мне один расстрига говорил: кто курит табачок, тот Христов мужичок, – возражает Охлоп.
– А у нас в полку сотник повторял всегда: «Копченое мясо дольше хранится», – вздыхает Посоха и тоже берет сигарету.
– Дураки вы стоеросовые! Государь наш не курит, – говорю им. – Батя тоже бросил. Надо и нам чистоту легких блюсти. И уст.
Молча курят, слушая.
Дверь отворяется, вываливаются остальные с женой столбового. Выносят ее голую, бесчувственную в тулупе овчинном. Нашим бабу укатать – дело своеобычное.
– Жива?
– От этого редко помирают! – улыбается Погода. – Это ж не дыба!
Беру ее руку безвольную. Пульс есть.
– Так, бабу – родне подкинуть.
– Знамо дело.
Уносят ее. Пора и точку ставить. Поглядывают опричники на дом: богат, добром полон. Но коли усадьба на слом по Государеву указу списывается, грабить нельзя. Закон. Все добро – Государеву красному петуху достанется.
Киваю Зябелю, он у нас по огненным делам:
– Верши!
Достает он из кобуры свой «Реброфф», насаживает на ствол насадку в форме бутылки. Отходим от дома. Целится Зябель в окно, стреляет. Звякнуло окошко. Еще подале отходим от дома. Встаем полукругом, вынимаем кинжалы из ножен, поднимаем вверх, опускаем, на дом врага нацелившись:
– Горе дому сему!
– Горе дому сему!
– Горе дому сему!
Взрыв. Пламя густое, клубящееся – из окон. Летят осколки, рамы да решетки, падают на снег. Занялась усадьба. Вот и пришел к ней в гости Государев красный петух.
– Молодца! – Батино лицо возникает в морозном воздухе в рамке радужной. – Стрельцов отпустить, а самим – на молебен в Успенский!
Конец – делу венец. Сделал дело – молись смело.
Выходим за ворота, уклоняясь от повешенного. А за воротами стрельцы вестников отпихивают. Стоят те со своими аппаратами, рвутся пожар снимать. Теперь уже можно. С Новостным Приказом у нас теперь, после достопамятного ноября, лады. Машу сотнику рукой. Целятся аппараты на пожар, на повешенного. В каждом доме, в каждом пузыре вестевом знают и видят люди православные силу Государя и государства. Понимают Слово и Дело.
Как говорил Государь наш:
«Закон и порядок – вот на чем стоит и стоять будет Святая Русь, возрожденная из Серого пепла».
Святая правда!
В Успенском соборе, как всегда, темно, тепло и торжественно. Горят свечи, блестят золотые оклады икон, дымится кадило в руке узкоплечего отца Ювеналия, звучит тонкий голос его, басит чернобородый толстый дьякон у клироса. Стоим мы тесными рядами – вся московская опричнина. Тут и Батя, и Ероха, правая рука его, и Мосол, рука левая. И коренные все, меня включая. И костяк основной. И молодежь. Только Государя нет. Обычно по понедельникам оказывает он нам милость – приходит помолиться с нами вместе. Но сегодня – нет солнца нашего. Весь Государь в делах государственных. Или – в церкви Ризположения, храме своем домашнем, молится за Святую Русь. Государева воля – закон и загадка. И слава Богу.
Обычный день сегодня, понедельник. И служба обычная. Прошло Крещение, поездили на санях по Москва-реке, опускали крест в прорубь-ердань под беседкою серебряной, еловыми лапами увитой, крестили младенцев, сами окунались в ледяную воду, палили из пушек, кланялись Государю и Государыне, пировали в Грановитой со свитой кремлевской и Кругом Внутренним. Теперь до Сретения – никаких праздников, сплошные будни. Дела надобно делать.
«Да воскреснет Бог и расточатся врази его…» – читает отец Ювеналий.
Крестимся мы и кланяемся. Молюсь любимой иконе своей – Спасу Ярое Око, трепещу под неистовыми очами Спасителя нашего. Грозен Спаситель, непреклонен в Суде своем. От его очей суровых сил на борьбу набираюсь, дух свой укрепляю, характер воспитываю. Ненависть к врагам накапливаю. Ум-разум оттачиваю.
И да рассеются врази Бога и Государя нашего.
«Победы на супротивныя даруй…»
Супротивных много, это верно. Как только восстала Россия из пепла Серого, как только осознала себя, как только шестнадцать лет назад заложил Государев батюшка Николай Платонович первый камень в фундамент Западной Стены, как только стали мы отгораживаться от чуждого извне, от бесовского изнутри – так и полезли супротивные из всех щелей, аки сколопендрие зловредное. Истинно – великая идея порождает и великое сопротивление ей. Всегда были враги у государства нашего, внешние и внутренние, но никогда так яростно не обострялась борьба с ними, как в период Возрождения Святой Руси. Не одна голова скатывалась на Лобном месте за эти шестнадцать лет, не один поезд увозил за Урал супостатов и семьи их, не один красный петух кукарекал на заре в столбовых усадьбах, не один воевода пердел на дыбе в Тайном Приказе, не одно подметное письмо упало в ящик Слова и Дела на Лубянке, не одному меняле набивали рот преступно нажитыми ассигнациями, не один дьяк искупался в крутом кипятке, не одного посланника иноземного выпроваживали на трех желтых позорных «меринах» из Москвы, не одного вестника спустили с башни Останкинской с крыльями утиными в жопе, не одного смутьяна-борзописца утопили в Москва-реке, не одна вдовица столбовая была подброшена родителям в тулупе овчинном нагою-бесчувственной…