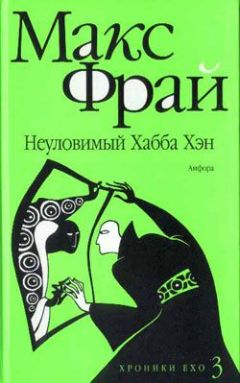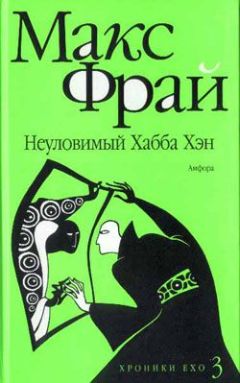Макс Аврелий - Моленсоух. История одной индивидуации
– Бабушка, можно мы пойдём…
– Куда?
– Гулять.
– Никаких гулять. Мама придёт, тогда пойдёте.
– Не-е-ет. Мы пойдём, – запротестовали мы.
– Не пойдёте! – Глаза Бабушки, видимо, должны были внушить внимание к её беспокойству; они стали какими-то другими, непривычными для нас. Однако мы поняли лишь то, что нас, по-видимому, и в самом деле лишат прогулки. Понятно, когда нам запрещали гулять в наказание за несанкционированные вылазки за приделы СМП, какую-нибудь порчу имущества или разрушения, которые время от времени случались дома в ходе наших игр, но вот так, без объяснения! Мы заревели. Это был проверенный тактический ход в отношениях с Бабушкой. В таких случаях Бабушка напускала на себя безразличный вид и со словами: «Поплачьте – поплачьте, меньше пописаете!» оставляла нас наедине с нашим горем. Тогда наши слёзы и причитания принимали характер вселенского плача. Вынести этого не смог бы даже Флориан Шнайдер[11], не то, что наша Бабушка. Побеждённая и виноватая, она возвращалась к нам с какими-нибудь сладостями, лаской и утешениями. Однако это не всегда помогало. И тогда был, наверное, один из тех моментов.
– Ну, мальчики мои хорошие, мама придёт, тогда…
Мы не давали ей договорить.
– Почему, Баб…? – говорил один.
– Ну, почему, Баб…? – подхватывал другой.
– Ладно, я вам сейчас расскажу, но только маме не говорите, а то она будет меня ругать.
Когда мы слышали такие слова от Бабушки, она тут же становилась нам симпатична. Не знаю, как Радик, а я представлял, как бабушка стоит со своим классической покаянной миной, с опущенными долу очами, руки по швам, а над ней возвышается мама, грозя ей пальцем.
– Нет. Нет, не скажем. – закивали мы, глядя на Бабушку серьезно и преданно.
– Вот, – начинала Бабушка, шумно переводя дыхание. – В детском саде дядю Диму нашли.
– Дядю Диму?!
– Да, соседа нашего. – Бабушка замолчала.
– Почему?
– Почему, Баб?
– Его под поезд бросили.
ЕМ: 21. Pond «Kaiser Wudi».
Больше Бабушка ничего не сказала. Мы были напуганы, этого было достаточно. Помню, что я представлял дядю Диму лежащим на земле с отрезанными ногами. Единственное, что меня смущало, это то, как он очутился на территории сгоревшего детсада. Позже, от Олега или ещё от кого-то, мы узнали, что какие-то пьяные люди, вполне возможно собутыльники дяди Димы, и вправду бросили его под проходящий состав. И всё-таки дяде Диме повезло, если это слово вообще здесь уместно, но ведь его могло бы разрезать и пополам, а ему и в самом деле только отрезало ноги. Придя в себя, он пополз к дому, однако, пересекая детский сад, умер от потери крови. Помню, узнав об этом, я долго и безутешно плакал, а Радик гладил меня по голове. Моё воображение рисовало мне картину, в которой я стою перед дядей Димой на коленях и держу в руках его голову с залитым слезами и кровью лицом.
После этого случая, какое-то болезненное чувство влекло меня в детский сад. А место, где якобы лежал дядя Дима, стало для меня местом паломничества. Почему это было так, я не знаю, но так со мною случалось всегда. Всегда, когда я становился свидетелем какой-либо несправедливости, жестокости, я впадал в странное состояние чувства глубокой вины перед тем, кого обижали, словно я был как-то и на самом деле причастен к этому. Я приходил на территорию детсада к «Месту дяди Димы», даже несколько лет спустя, чтобы переживать снова и снова то упоительное состояние страха, скорби, печали и вины, в которое меня повергали воспоминания о смерти дяди Димы, и любимую мной воображаемую сцену не то оплакивания, не то покаяния перед, в общем-то, чужим мне человеком.
Размышляя над этим, иногда я думаю, что мои, тогда как будто навсегда мной забытые нездешние покровители, о которых по этой причине я и не знал и не думал, давали мне возможность испытать подлинное чувство вины. Не такое, как когда проштрафишься перед взрослыми или обидишь Радика, Киру или кого-нибудь ещё… А настоящее чувство вины, то, которое называется раскаянием. Раскаянием перед всем человечеством, может быть за то, что мне предстояло сделать в будущем… Значит раскаяние за ещё несделанное, может быть, это была возможность почувствовать, что-то, что в последствии могло стоить очень дорого и этого стоило остерегаться? Но ведь спустя какое-то время, становясь подростком, я забыл об этом чувстве и совсем забыл о дяде Диме. Тогда я ещё не знал, что именно дядя Дима выносил меня в своей брезентовой куртке из подвала сгоревшего клуба. А если бы знал, может, не забыл бы. В любом случае, понятно мне стало это только годы спустя после того, как мной было совершено всё, за что каялся еще четырехлетним ребенком, дядю Диму забывать было нельзя.
Скакопрыг
«…и где-то ловит человека его безумная судьба»
Автор ИзвестенЕМ: 22. Vromb «Eclairs».
Однако ближе к школьному возрасту, когда мне было уже около шести, я всё чаще стал находить возможность улизнуть из дома Бабушки в одиночку. Не знаю, было ли это уже стремление к одиночному плаванию в те времена… Но Бабушка, как правило, возилась в огороде, и если я видел, что Радик, очень увлечён какой-то игрой, то я бесшумно выходил в коридор и задними огородами обходил дом. Бабушка заглядывала в окно, но, увидев одного внучка, увлеченного своим каким-нибудь делом, успокаивалась, так как чтобы кто-то из нас решился куда-то идти в одиночку, было неслыханно.
Потом, конечно, за свою смекалку я был пару раз наказан любимым папиным ремнем, но, видимо, не особенно, потому что с каждым новым днём моей жизни тяга к неизведанному, к чему-то совершенно иному становилась все сильней, и меня не смогли бы удержать даже такие родители-садисты, вроде «воспитателей» полоумной красавицы Сони или моего приятеля Олега.
Оказавшись на задних дворах, бабушкин дом располагался в первой линии поселка, я пускался бегом между проселочными дорожками второго и третьего ряда. Там, где кончались дома и огороды, во время строительства поселка было начато строительство летней концертной или танцплощадки. На самом деле это были два огромных скрепленных между собой бетонных полотна, примерно десять на восемь. Над плитами сооружалось что-то типа купола, тента или просто ставились ширмы. Когда я был ещё совсем малышом, здесь поселок реально гулял, и родители приводили нас сюда с Радиком и Кирой. Но, когда мы уже немножко подросли, мама с папой все чаще пропадали на заработках на севере, а поселок разваливался, покидаемый постепенно перемещавшимися в строящийся город жителями.
Место это с тех пор называлось кораблем, и это имело свою вполне мистическую причину. Дело в том, что рядом с поселком, как я уже намекал, проходила железная дорога, площадка располагалась, где-то в метрах пятьсот от неё. И когда горожане или гости города проезжали мимо платформы с развевающимися на ветру парусами декораций, всяческих ширм и занавесок, посреди огромной степи с пригнувшейся к земле от ветра травой, то могло возникнуть ощущение, что вы стоите, а корабль плывет…
Когда самое активное и продвинутое население поселка, которое его и основало, стало покидать свое творение, то реализовался акт естественного отбора. Пьяницы, лентяи и недотепы остались в поселке. Там же росли и их дети. Хотя конечно были и такие, кто остался в поселке не по причине своего скудоумия или лености. Кроме нас Кровниных, это были скромные и почти непьющие труженики Родины. Я не знаю их историю, но у них была девочка Саша, она была на пару лет старше нас с Радиком, и у неё была старшая сестра, которая уже училась в городе, в странном заведении, называемом в поселке шарагой. Мы иногда вместе играли с Сашей, Кирой и с какой-нибудь малышней. Надо сказать, Олег Блуднин с нами не играл никогда. Хотя иногда, подойдя, он останавливался в метрах двух, смачно сплевывал себе под ноги и затем, чинно развернувшись, или печально покачав головой, вразвалочку, не спеша, удалялся, насвистывая какую-нибудь песенку из тех, что любила петь Бабушка. Я всегда был готов сорваться за ним, чувствуя в Олеге вожака, или кого-то там ещё, но меня, как правило, удерживали Кира или Бабушка, которая неподалёку дремала на лавочке, или посматривала на нас из огорода, копаясь со своими «урожаями», как она их называла. Однако такие встречи на куче песка бывали не частыми, чаще Саша с Кирой гуляли по поселку вдвоём. Бывало, Кира приходила домой с разодранными локтями и коленями, о платье уж нечего было и говорить. Родителям, или чаще Бабушке, она рассказывала, что мальчишки дразнили Сашу «Родина – уродина», а она за неё заступалась. Это, наверное, было правдой, но Саша была не из тех, что пускают слюни во время вражеской атаки. Я видел, как мальчишки драпали от неё, подтянув штаны. Потому, что семейство Родиных состояло из двухметровых родителей, приехавших осваивать целину оттуда же, где родились мы с Радиком, это город Красноярск, а потому и их отпрысков Господь ни умом, ни смелостью не обидел. Часто мы, вся детвора, собирались на корабле. Туда ещё приходили такие персонажи как Света Герасименко, Ирка Иквина, Верка Хадалова, Серега Жураковский приезжал в кресле-каталке. В общем, вся поселковая братия и сестрия от трех-четырех лет и чуть ли не до подросткового возраста. Например, тот же Витька Фельд был совсем взрослый пацан. Ему было лет двенадцать или тринадцать. Для нашего поселка это совсем взрослый парень. Про таких Бабушка говорила «здоровый телок». Я знал, зачем он приходит на корабль, да и другие догадывались. Дело в том, что плиты были не монолитами. В них были проходы, которые образовывали своеобразные лабиринты. Витька затаскивал туда кого-нибудь из девчонок, и щупал в своё удовольствие. На крики никто внимания не обращал, так как криков хватало. Что касается Олега, то его здесь не видели никогда.