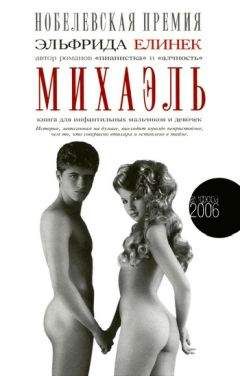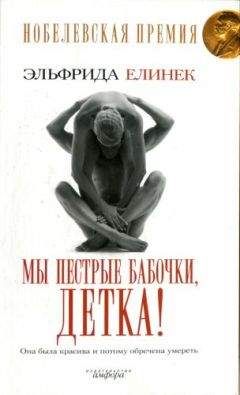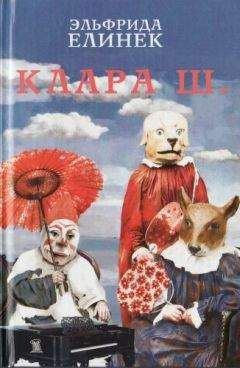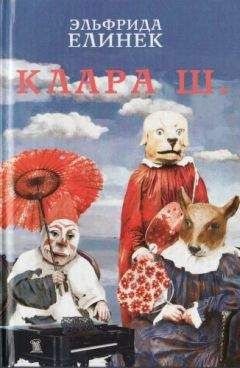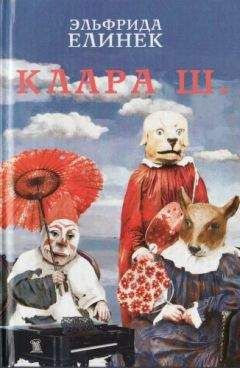Эльфрида Елинек - Дети мёртвых
Природа завывает и бросается мёрзлой водой (без существенной поддержки ветра снег весит между 30 и 150 кг на кубометр, а с ветром — до 250 кг!). У неё хотят отнять её игрушки! Она безутешна, даже если ей обещаны новые в форме лавин и горных проходимцев — знаменитых камнепадов и прочих неразорвавшихся бомб. Складки на спортивном костюме, которые на стройной женщине неприятно бросаются в глаза, застывают по стойке «смирно». Съеденное с миром покоится в теле. Еда — это как будто тебя накрыли на столе за чем-то непристойным, — единственное переживание, какое Карин позволяет себе, но это ещё не значит, что она хотела бы дважды пережить себя. Чужая: дама, которой не приходится предвещать святой источник, поскольку она уже бредёт в нём по пояс. Её торс нахлобучен на водную поверхность и покоится на ней, как садовый гном, которого по ошибке поставили на воду. Её мокрые волосы свисают вниз, как крашеный гипс, вода льнёт к её бёдрам, но не отражает её. Эта вода не делает ничего хорошего, она никого не поит и не служит спорту. Она то и дело возмущается, пока не успокоится, — упрямые пряди волос, которые не хотят назад в причёску, книга, которая не может удержать свои листы. Обе женщины стоят друг против друга, иногда из них течёт кровь, потом больше не течёт. Не всё с возрастом набирает цену. Не так много тех, кого удивило бы, что быть человеком — такая уж удача. Это состояние то и дело вылезает и кусает своих хозяев, оно оборачивается против хозяев и показывает зубы и не желает больше терпеть, чтоб им командовали в отношении пищи. Природа человека сокровенна: самое глупое в ней то, что она имеет то же лицо, что ты и я. Поэтому её и не узнаешь.
Хотя Карин более или менее уверенно стоит у края бассейна, она всё же знает, что она, вообще-то, лежит внизу, на его дне, с разорванными сосудами и раздробленными костями, что она никогда не сможет держать на своих коленях сына, это высшее существо, этот универсальный ключ к женственности, и что никто ей этого никогда даже не обещал. Даже духа этого нет на её холодных, старых руках. Сын не дышит, потому что он даже не явился. Ветер становится всё сильнее, он прерывисто дышит, белое дыхание веет над отрогами гор, тени дрожат в ущельях, в складках кожи, смазанных человечьим жиром, чтобы они не воспалились от обилия грязи. На шатких подставках пытаются выехать неместные, на этом маленьком пятнышке воды, которое бесплотным, вынужденным любой путь сперва с трудом рассчитывать, кажется целым океаном. Карен ни в коем случае не хочет ехать вместе с ними, это она знает. Что-то её дёргает, что-то перезревшее, переслушавшее, что хотело бы наконец упасть с ветки, чтобы какой-нибудь жизнелюб съел его у неё на коленях. Но там вовеки никто не сидел, и Карин находит эти покачивающиеся плоды ужасными, поскольку на них уже есть опрелости. Русалка Карин-два, этот замок на осколке поверхности воды, теперь медленно тонет. Только что её видели ещё выше бёдер, а теперь вода доходит ей уже чуть ли не до талии. Она машет Карин, искренне зовя её за собой, ибо, судя по всему, предать себя ей можно только добровольно, стать с ней заодно и умереть. Но если ещё не созрел до готовности, то блюдо опять вернут на кухню, его ведь можно разогревать снова и снова, чтобы бывшее стало единственным и могло повторяться, всякий раз хуже, чем было. Для чего же тоща блуждать мыслями далеко, если там, в этих Нижних Альпах, всё время натыкаешься на одно и то же время? В этой, Другой, женщине, каковой она и является, Карин хочет всё же одолеть Другую и наконец стать самой собой. Ведь история доказывает, в лице другого скорее разрушишь собственную родину, чем завоюешь к ней вдобавок вторую! Перила на высоком мосту, берёзовая кора, которая облезает, как кожа с человека после солнечного ожога, на ней остались следы человеческих пальцев. Руки. Двое путешественников ступили на мост, и Карин снова наступает на то, что держит для себя самой. Её подобие погрузилось в бассейн по плечи и продолжает тонуть всё быстрее. Подбородок этой второй женщины вздёрнут вверх, как будто она хочет загрузить в кузов своего тела ещё несколько вдохов, но груз уже начал сползать. Видимо, эта женщина вообще не нуждается в воздухе, поскольку его вообще больше нет, думает Карин, набирая в лёгкие воздуха (это не сон, иначе бы она не походила на меня до такой степени!). Но Карин не может шевельнуться. В той же мере, как её противница, эта женщина-вратарь состязания за единственность и неповторимость, Карин идёт ко дну, воздух давит на тело Карин и приговаривает её к неподвижности. Она больше рукой не может шевельнуть. Это как если бы на ней лежал целый автобус, а потом её, наполовину съеденную, выплюнул бы на яркий луг. Последний бульк в воде, поверхность смыкается, три листика без сопротивления увлечены вниз, короткий хрип, барабанная дробь из жидкости, которая скопилась внутри инструмента, и потом всё исчезло. Вода снова разгладилась, после чего наскоро почистила свои перышки. И снова тихо, и мы приветствуем ветер, который поднялся.
Эта вода нарвалась на драку. Но по ней незаметно. Как ни боялась Карин погружения в эту Другую и погружения вместе с ней, в последнее мгновение, поскольку свет отвернулся от поверхности воды, она поняла с несомненной уверенностью, что она себя, в конечном счёте, потеряла в исчезновении Другой. Она ещё пытается запрыгнуть в последний вздох вагона утопающей, сделать его собственным дыханием, последней памятью о себе самой, поскольку, может, никто, кроме матери, о ней и не вспомнит. Этот обмен бессловесными, а также недооценёнными товарами не состоялся. Чужая женщина затонула, исчезла, и Карин, кораблик, одновременно оттолкнулась от берега, который ей больше незнаком, её влекут другие берега, которые она знает ещё меньше, чем себя, они могут оказаться где угодно. Вот и уплывает её шкурка, воздух какое-то время кипит, поскольку тут женщина с волнами химической завивки светло-золотистого цвета (как прелестно, да даже и лестно это сравнение с водой!) больше не выдерживает в своей засаде, поскольку отдающие синевой тени больше не хотят оставаться на веках женщины на одной фотографии и теперь примыкают к нам, пристёгнутым ремнями к крыше одной машины скорой помощи. Вильдбах бушует. Там ходят женщины. Там ходят также двое мужчин. Это существа, которые прибыли сюда в ящике Пандоры. Мы их не знаем, и их заказ на бронирование комнат в отеле, кажется, тоже не дошёл до ресепшен. Видно, что под мостом лежит сорвавшаяся женщина, эй, hollodrio, кто это там сложил нашу тирольскую песню, а потом развалил и просто вывалил в лесу?
На разбившуюся Карин смотрят вниз с высоты моста, как будто её уже забрали с игрового поля, а ведь она была всего лишь запасным игроком и всегда только ждала своего выхода. Наша вода немного поскулит в последний раз, как животное, у которого отняли еду, а потом снова стихнет. Всё-таки этот оригинал, эта Карин-один, слышит под дребезгами воды, как внизу, глубоко под ней, человеческая масса, человеческий массив, более обширный, чем Снежные Альпы, хочет под покровом темноты выйти из этого Диснейленда наверх, — масса, которая не поддаётся постижению умом. Карин отчаянно просит, чтобы её не забыли или, по крайней мере, не дали захватить этому восстанию масс, этой грозной силе. Она, Карин, не позволит нести себя на руках! Двое глаз тем не менее уже прочно прикованы к ней — фары огромной машины, которая, наполнившись другими путешественниками, хочет отправиться в путь. Вот она захлопывается, туристы на мосту кричат, машут, жестикулируют, артикулируют, поскольку над ними громыхает взмах невидимого крыла, чуть не срывая у них с головы волосы. Надвигается буря. Мы бредём оттуда, держа в пакетах высоко над головой то, что с трудом сумели приберечь, по необозримому отвалу очков и челюстей, которые были вырваны у человечества, которое надолго зазевалось. Как будто вся гора оторвалась от берега, схватила Карин в углубление, обыскала на наличие исчезнувшего Я, не нашла ничего, кроме осклизлых водорослей и древних прелых листьев, в промежуточном пространстве не нашарила ничего, кроме ледяной воды, и застыла, как лошадь, которой вогнали в задний проход кусок железа, чтобы она смирно позировала палачу. Карин неподвижно ждёт своего исчезновения, которое годами провозвещалось ей в мелочах, в небрежности, какую все допускали по отношению к ней, — всё учтено, и ничто не забыто. Теперь это значит найти запасной выход из себя, чтобы тоже шагнуть в воду, — кто знает, как долго ещё продлится время? Или она, Карин, уже выбрала выход и теперь лежит там, внизу, лопнувшая, рядом со своими кишкамиОТГочему её существование снова и снова требует забвения, когда оно могло бы потребовать хорошего красного вина или двойного фруктового ликёра?
Двойница исчезла, но всё-таки она задела Карин и уже внесена в водительское штрафное свидетельство машины Карин, которое теперь на материнском поводке ведёт вниз, и там Карин будет задержана. Может, из этого что-нибудь и выйдет, но тоже не будет любимо. Те, кого мы любим, позволяют себе решительно много лишнего, разве я не права? Карин бредёт сама в себе по пояс к берегу. Её вид снова может быть исчерпан. Коккер-спаниель, бесхитростный, как спящий младенец, золотой, как листва перед тем, как опасть, звонко лает вниз, взыскуя внимания дачницы. Там ведь лежит госпожа Френцель, мы спешим за ней. Сытое животное ненасытно скачет вокруг, показывая дорогу, которую и так все видят. Голоса громко стрекочут, как вертолёты, являя собой негатив к этому позитивно настроенному животному. Что, госпояса Френцель сорвалась? Так прямо и рухнула? Вот это сенсация. Издалека множатся крики жизни, мы слышим, как они дают справки о привычках и обычаях избалованной собаки. Карин сорвалась вниз, но теперь она снова пытается встать на четвереньки, слава богу. Несколько взволнованных женщин, подоткнув подолы, следуя порывам светломастного животного, спускаются по узкой тропинке к сорвавшейся женщине. Быть животным — это значит погибнуть от ласк и потом возродиться в бесчисленных плюшевых версиях, собака с тявканьем прыгает вперёд. Женщины сползают, карабкаются вниз, они машут руками и восклицают, запутавшись в верёвках своих речей, как Лаокоон в своих сыновьях. Наша Карин снова вернулась домой, только не знает, откуда и всколькером. К ней старательно подлизывается белокурая бестия, тщетно, как и каждый день. Госпожа Френцель рассеянно гладит голову этого друга чужого человека, сама же она и себе-то чужая. Она выпрямляется с болью во всех конечностях, на неё налетают, расспрашивают, рукописно описывают. Только теперь, с сильным запозданием во времени, она слышит инфернальный лай собаки и треплет голову, которая её облаивает. Её подхватывают под руки, но она стряхивает с себя опорных кариатид, как во сне. Она может идти сама, хоть и с трудом, она лишь спустя несколько секунд замечает, что уже поднимается в гору, отпускные знакомые за ней, начеку, чтобы подхватить её, если она захочет куда-то в другое место, а не туда, куда ей положено. Карин Френцель взбирается вверх по склону, шум горного потока остаётся позади, и скоро она снова присоединяется к группе людей, которые так о ней беспокоились. Ястреб не управился бы скорее и получил бы за это немного мяса, омрачённый целым лесом.