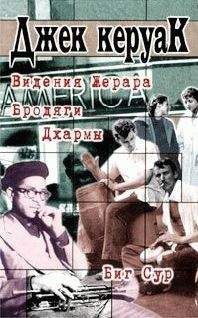Джек Керуак - Суета Дулуоза. Авантюрное образование 1935–1946
С поля мне помогают ухромать.
Я иду в душевые и раздеваюсь, и тренер массирует мою правую икру и говорит: «О, немного растянул, ничего страшного, на следующей неделе Принстон, и мы их опять возьмем на раз-два, Джеки, мальчик мой».
VIII
Но, женушка, то была сломанная нога, треснутая большая берцовая кость, типа если треснешь себе косточку толщиной с карандашик, и карандаш по-прежнему держится вместе на этой трещинке толщиной в волосок, в смысле, захочешь – и просто сломаешь карандаш напополам, крутнув его двумя пальцами. Только этого никто не знал. Всю ту неделю мне говорили, что я слабак и чтоб давал шевелился, и бегал, и хватит хромать. У них были мази и притирки, то и се, я пытался бегать, бегал и тренировался и бегал, но хромота ухудшалась. Наконец меня отправили в Медцентр Коламбии, сделали рентген и выяснили, что у меня сломана правая берцовая кость и я неделю бегал на сломанной ноге.
Я на это не злюсь, женушка, как на то, что именно Тренер Лу Либбл настаивал на том, чтоб я старался, и велел тренерам первокурсников не слушать мои «стенанья» и заставлять «разбегивать». Да не разбегаешь ты сломанную ногу. Я тогда сразу понял, что у Лу Либбла отчего-то, никогда не пойму отчего, на меня был какой-то зуб. Он всегда намекал, что я никчемный, и с теми моими здоровенными ногами вроде бы должен был поставить меня в состав и сделать из меня «чарующего страхового защитника».
Однако (наверное, теперь я знаю почему) только тем летом, я забыл упомянуть, Фрэнсис Фэйхи позвал меня на поле Бостонского колледжа – испытать меня раз и навсегда. Он сказал: «Тебе точно надо приехать в БК, у нас тут система, Нотр-Дамская система, где мы берем защитника вроде тебя и с хорошей линейной игрой выпускаем на свободу прямо на поле. А в Коламбии при Лу Либбле тебя если и выпустят, то через фланг, тебе придется бежать добрых двадцать лишних ярдов, пока вернешься на линию схватки с этим его дурацким розыгрышем КТ-79 навыворот, и в лучшем случае тебе удастся увернуться только, может, от крайнего, а вспомогательный на тебя навалится тут же. С нами же – бум, прямо сквозь блокирующих полузащитников, защитников, правых или левых крайних заметающих». Потом Фэйхи заставил меня надеть форму, вызвал своего тренера защиты Маклюэна и сказал: «Разберись с ним». Наедине в поле с Маком, лицом к лицу с ним, Мак протянул мяч и сказал:
«Так, Джек, я тебе сейчас кину этот мяч, как бросает центровой; когда он будет у тебя, дуй, как полузащитник, куда хочешь попробовать. Если я тебя коснусь, вылетаешь, так сказать, и тебе чертовски хорошо известно, что я тебя коснусь, потому что я раньше был одним из самых быстрых защитников на востоке».
«Фиг тебе был», – подумал я и сказал: «Ладно, кидайте». Он нацелил его на меня, непосредственно, лицом ко мне, и я сорвался с глаз его долой, ему пришлось вертеть головой, чтоб заметить, как я обхожу его слева, и это тебе не Харвардские враки.
«Ну, – признал он, – ты не быстрей меня, но, ей-богу, откуда у тебя такой внезапный взлет? Из легкой атлетики?»
«Ну». И вот в душевых БК потом, я вытираюсь – и слышу, как Фэйхи и Мак обсуждают меня в тренерских душевых, и слышу, как Мак говорит Фэйхи:
«Фрэн, это лучший полузащитник, которых я видал. Ты должен заполучить его в БК».
Но я поступил в Коламбию, потому что хотел врубаться в Нью-Йорк и стать крупным журналистом на теме большого города. Но по какому же праву Лу Либбл утверждал, что из меня никудышный бегун. И, женушка, ты только послушай, как насчет одного вечера прошлой зимой, в «ХМ», когда Фрэнсис Фэйхи назначил мне встречу на Таймз-сквер и повел меня смотреть «В горах мое сердце» Уильяма Сарояна, а в антракте, когда мы спустились в туалет, я, уверен, заметил, как из толпы мужчин за нами наблюдает Ролф Фёрни из Коламбии? Поверх чего они тогда отправили в Нью-Йорк и Джо Кэллахэна, чтоб вывезти меня из города, чтоб еще больше убедить меня за Бостонский колледж и через некоторое время Нотр-Дам, но вот он я в Коламбии, Па потерял работу, а тренер считал, что я такой никчемный, что ему даже с трудом верится, будто я взаправду сломал ногу.
Много лет спустя я напечатал об этом стихотворение на спортивной странице «Дня новостей», лонг-айлендской газеты: довольно уместно, потому что в нем еще говорится о ссоре, которая потом случилась у моего отца с Лу Либблом, – о том, что меня недостаточно в игру вводит, и о какой-то их договоренности, которая скисла, о том, что Лу-де поможет ему подыскать работу линотиписта в Нью-Йорке, а из этого ничего не вышло:
ЛУ ЛИББЛУ
и говорил, что вы ему не нравитесь
Он считал, что слишком убог для вашей
конторы; такое у него пальто
И волосы причесывал себе и шел
со мной в контору по найму
И просил меня поговорить с человеком наедине
за нас обоих, потом вздыхал
И отползали мы домой, в Лоуэлл; где
милая матушка ставила пирог на стол
как бы то ни было.
В своей первой игре я несся как безумный
в Ратгерзе, без Клиффа:
Он не поверил тому, что прочел
в «Зрителе»: «Кто этот Джек»
Вот я в игре со Св. Бенедиктами
не желая, чтоб меня эти жлобы поймали
Рву с розыгрыша сразу прямо к
банде и лалузаю рядом
Пастафалузе на пятиярдовой линии,
вы были там, вы помните
Мы не забили первый гол; и я
принял удар с рук и сломал ногу
И так ничего и не сказал и ел сливочные
с карамелью со стейками в
«Логове льва».
Потому что из этого только одно хорошее получилось: со сломанной ногой в гипсе и с двумя костылями у меня под здоровыми мышками, я ковылял всякий вечер в «Логово льва», ресторан Коламбии типа с камином-и-красным-деревом, садился перед огнем на почетном месте, смотрел, как мальчишки и девчонки танцуют, всякий благословенный вечер заказывал тот же филе-миньон с кровью, ел в свое удовольствие, косо прислонив костыли к столу, затем на десерт два сливочных мороженых с горячей карамелью, и так всю благословенную сладкую осень.
И я действительно так ничего никогда и не сказал, иными словами, не стал подавать в суд или вонь разводить, наслаждался этим досугом, стейками, мороженым, почестями и впервые за свою жизнь в Коламбии начал по собственному почину изучать полный обалденительный, глаза нараспашку, мир Томаса Вулфа (не говоря уже и о работе по учебной программе).
Много лет потом, однако, Коламбия продолжала мне слать счета за то, что я съел за тренировочным столом.
Я их так и не оплатил.
Чего ради? Нога у меня по-прежнему болит в сырые дни. Тьфу.
Плющевая Лига, ага.
Если не говорить, чего хочешь, в чем смысл писать?
IX
Но О та прекрасная осень, сижу у себя за столом, моя ароматная трубка ныне перевязана клейкой лентой, как перевязывали мою ногу, слушаю прекрасную Финскую Симфонию Сибелиуса, которая и посейчас напоминает мне об ароматном табачном дыме, и хоть я знаю, что все дело тут в снеге и моей тусклой лампе, а передо мной разложены бессмертные слова Тома Вулфа, который говорит о «погодах» Америки, о том, до чего бледно-зелеными и шелушащимися выглядят старые дома за складами, пути бегут на запад, индейцев слышно по рельсу, енотовая шапка в горах старой Се́рной Каолины, река подмигивает, Миссиссиппи, Шенандоа, Рио-Гранде… нет мне нужды пытаться сымитировать то, что он говорил, он просто пробудил меня к Америке как к Стиху, а не к Америке как к месту, где бороться и потеть. В основном этот темноглазый американский поэт подбил меня захотеть рыскать, и скитаться, и смотреть настоящую Америку, которая есть и «еще не молвлена». Нынче, говорят, только подростки ценят Томаса Вулфа, но это легко сказать после того, как по-любому его прочел, потому что он такой писатель, чьи стихотворения в прозе можно прочесть ну от силы раз, и глубоко, и медленно, а открывая и открыв – отойти отнего. Его драматические эпизоды можно перечитывать вновь и вновь. Где сегодня семинар по Тому Вулфу? Что это за минимизация Томаса Вулфа в его время? Потому что мистер Шварц мог подождать.
Но вот я сижу за столом, книга раскрыта, и грю себе: «Уже почти полвосьмого, доковыляем-ка мы до стараго-добраго „Логова льва“, откушаем филе-миньона, мороженого с карамелью, кофию изопьем, а засим отковыляем-ка к некоей сто шестнадцатой станции подземки [вспомнив Профа Керуика и его математические последовательности чисел] и поедем-ка на Таймз-сквер, где пойдем-ка посмотрим-ка французское кино, поглядим, как Жан Габен сжимает губы, говоря: „Ça me navre“,[12] или как мешковатая задница Луи Жуве подымается по лестнице, или ту горько-лимонную усмешку Мишель Морган в спальне у моря, или как Харри Бауэр стоит на коленях в роли Генделя и молится за свою работу, или Рэмю орет днем на пикнике у мэра, а затем, после этого, американский сдвоенный сеанс, может, Джоэла Макрэя в „Союзной Тихоокеанской“, или как его хватает душераздирающая липучая милая Барбара Стэнуик, а то и сходить посмотреть, как Шерлок Хоумз с долгим корнским профилем пыхает своей трубкой, а д-р Уотсон пыхтит над медицинским томом у камина, а миссис Кэвендиш, или как ее там звать, идет наверх с холодным ростбифом и элем, чтоб Шерлок смог решить последнее проявление правонарушения д-ром Мориарти собственной персоной…»