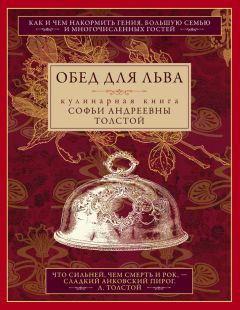Софья Купряшина - Видоискательница
Вынул из ножен моржового ужа и сказал:
— Горячо говоришь, но общо, Цирцея ты аукционная, бацилла цимлянская.
Взял вожжи и похрычовил корчевать желуди. В ушанке Межова лежала тушенка.
Диктант № 4
(От А до Я три раза)
Аббатство Безенчука выглядело гибельным. Давно епископ Ёксель жил зло и коварно, любил мелочных негодяев, описывал пороки, развратные страсти, тлетворно улыбаясь Франческе. Хлюпая, целовал чело, шею, щурил твердый знак, ыкал мягким знаком — эдакая юла яблочная.
А бедная вдова глубоко дышала, если Ёксель жадно залезал и кричал: «Люблю!» Мастурбируя недотрогу, он подолгу разглагольствовал, сопел, трепетал, урчал, фыркал, хватал цепи, член, шлем, щетинистым твердым знаком ызводил мягкий знак эдемского южного языка.
Ахнув, Безенчук выронил голову. Девушка его ёбнула железным забралом и кованным литым мечом, немного описавшись, правда, развалила старую тыкву. Убежала Франческа. Холодные цепенеющие челюсти шептали щербатым твердозначным ытверстием: «Ь! Эх, юдоль ядреная!»
Сочинение № 1
ученика 10 «Б» класса
91-й школы АПН
Королькова Саши
на тему:
«Как я провел лето»
В саду ростральных колонн — тыща. Они пригибаются к земле. Сад — глухой, островной, совсем не острый, а — теплый протертый суповой.
Есть несколько таких садов, много есть: один у пневмонического отхаркивающего диспансера, другой — у Люблино: меж мебельным и сладким магазином «Салах». Я — мальчик в черном, у меня украли штаны. Я ходил по саду, думал про Олешу, думал про Градскую. Знал: это будет сегодня; с самого утра проснулся, как всегда, с жуткой эрекцией, я иногда боюсь моего джокера в стоячем положении: он поворачивается ко мне лицом, как короткий змей, требует чего-то, заставляет меня ходить без трусов, целыми днями лежать в постели и покачиваться вперед-назад, он сделал мои бедра негритянски подвижными. Я танцую, борюсь с ним — мне кажется, он не устает никогда и не падает полностью никогда; пару раз я увидел вместо него что-то женское, как увядший кактус, — когда была температура. Я думаю, что весь я не умру: сразу весь; он проживет дольше всех, только побледнеет.
Или как у Платонова: убили красноармейца, а у него — поллюция. Возможно, я его распустил, но мне не хотелось бы Чернышевского варианта. Мне вообще хотелось бы покоя; не знаю, что мне выбрать: старческий профиль семнадцатилетнего Мандельштама или младенческий фас (ан фас) — потенциально-пузырепускательный — сорокалетнего. И у меня так; поэтому в моем внутреннем сорокалетии я выбрал себе сорокалетнюю Градскую, чуткую работницу больницы. Она долго таскала меня за нос, лечила, неоправданно долго водила ваткой по попе, изъязвилась вся по поводу моей мнительности, но были моменты — она обмякала; эта сорокалетняя растерянность ей так к лицу:
— Не знаешь, что заварить от поноса?
Я осторожно осведомился, давно ли это у нее, и тут же был смят бессвязной (по-женски) тирадой об отсутствии воспитания и, как следствие, наличии многих болезней. Эх, ворона ты крашеная, медсестра ты вокзальная, наладчица шин, любительница зайти в общественный туалет. Зол я бываю на всех и всегда: не по годам зол, не по средствам, не по положению.
Что до логики — я и сам ею никогда не обладал в полном объеме, в пределах петтинга — да, не более. Оттого я и зол на всех, что — на себя (по нарциссическрму типу). Поэтому я сильно отклонился.
Итак, утро — зеленое, солнечное, хуй знает какое. Я иду за рецептами к Градской — я, семнадцатилетний мокрый Мандельштам, со всем набором давно не стриженого волчонка: черная футболка, глаза, волосы повились от болотной воды, крест облез, и тошнит от предчувствия, что сегодня я лишу ее сорокалетней целки. Люблю ее и ее коммунистические брошюрки; жар полыхает прямо из футболки, ну и так далее — наколки, креолки, картины, корзины — вся пыльная снедь у мебельного магазина окружает своих хозяев.
А какой все же стандарт! Есть интонации желания, на которые не провибрировать мог только Чернышевский. Есть множители: время, дразнилки, ее постепенное распечатывание, и вот мы повязаны… да кто был повязан… Я, что ли? Ха! Письку в рот! Предрассудки! И еще: чем больше патологии, тем крепче (какой-то ее антимнестический афоризм). Она — с ярко выраженным мужским началом, я — с неярко выраженным женским (типичным для неврастеника).
Итак, шахматность положения очевидна.
Случилось же по дороге вот что. Я решил скупнуться в гадкой люблинской реке, ибо вышел охуительно рано, ибо знал — выебу ея! Ну и, значит, снял, значит, штаны и, значит, сумку, и поболтался у буйка, и вылез, и, кладку одежд оставив у кромки, вошел в тот Сад в трусах в мокрых. Я сразу понял, что он непотребно волшебный, и знал другим ухом, что сейчас у меня одежду пиздят, но выйти из Сада не мог. Как хорошо было в Саду одному! Я сразу вспомнил синие груши Олеши (не подумайте плохого!), волшебство густого воздуха, летающих тигров, и все озарилось для меня тем многоцветием любви, которое там описано. И так я задыхался, смеялся, вдыхал, садился, катался и все такое делал приятное и тихо, про себя, говорил слова. Наконец вышел из зарослей, ибо захолодало. Епядь — одежонка — ёк, сумка — ёк, ни ключей, ни бабок. Какой хуй польстился на железный рубль и рваные штаны? Наш, советский. Ну и я как-то почему-то думаю: «Вот класс!» Трусы у меня сошли за шорты, футболка черная, мокрая, опорки оставили (наверно, у них были валенки), и я вышел на шоссе. Мне это было в пику: теперь Градская будет носиться по отделению мне за штанами, а я прикинусь мокрым и холодным сиротой — любимый имидж! — и, конечно, от жалости до любви — один шаг.
Но обманулся. Она мне не поверила и начала мне рассказывать, как я тащился в трусах из самого дома, а потом обвалялся в луже и придумал эту историю — «благо фигура у меня хорошая, девушки смотреть будут». Так, перемежая комплименты с оскорблениями, она меня начала медленно хотеть (или быстро). Потому что она меня уже ебла в словесном эквиваленте — это понятно каждому: там поласкает, там укусит.
— Значит, вы не дадите мне штанов. (Мандавошка дряхлая.)
— А ты думал, я приглашу тебя домой, в теплую ванночку и спинку потру, и рюмку поднесу, и спать с собой уложу?
Под халатом у нее была мужская майка по случаю жары.
— Ну, тогда извините за беспокойство.
— Постой! Вот рубль.
— На чай! — И бух его в кружку с кофе; и по руке — вверх — вверх — вверх — вверх — нет, ей не больше двадцати…
Надо же — вкуса ее не помню. Помню, своим ключом открыла кабинет сестра и принесла ей торт с кулинарного конкурса медсестер. Я в это время был в шкафу — смотрел пособия.
— Что это вы, Лидия Павловна, безо всего?
— Жарко, милая.
Подростковая комплекция Градской причудливо соседствовала с тремором рук и головы, седые вихры — с медными, обезьянья юношеская гибкость — со старческим шарканьем при далеко отставленной (отставной) заднице; все было зыбко, взбалмошно, то сливочно, то говенно, то глупо, то умно — как погода Подмосковья.
Несколько постоянных качеств:
— уважить всех, а потом всех обложить;
— спазмы сосудов горла;
— стремление пересказывать научно-популярные передачи, придавая им заостренно-детективную или событийно-психологическую форму содержания плюс пару эпизодов из своей жизни, ласково вкрапленных (каплями масла) в биографию Сирано де Бержерака.
Причем интересно, что потом так и оказывалось: фантазии становились малоизвестными научными фактами, а то и теориями с крупными названиями; и изо всей этой цепи малоуловимых превращений (фантазия — факт — фантазия — факт etc.) можно было понять только одно — она обладала даром пророка-спринтера, если включала то, что надо и когда надо.
Постоянной чертой ее было также непостоянство, столь филигранно исполненное, что казалось постоянством.
Через сутки я от нее вышел в голубых брюках медбрата: глупым, безмозглым суперменом. Счастлив был бессловесно, как бабочка, стебелек какой, как глухонемой крот — ворсистый несколько.
А ночью меня настиг мандельштамовский приступ астмы, и понял: повязан уже по рукам и ногам. Хоть на месяц, а — скручен. Пока чувство не переросло в поединок, надо сворачивать декорации. И свернул, конечно, через какое-то время. Счастье — бесцветное и безмозглое, в нем вырубаешься, и оно не для настоящего мужика. Для меня, например, остался Сад-предчувствие, радость обокражи; любовь — средство, а не цель, и это, как его, красиво кидать баб по всему свету, где индонезийку, где черненькую, где монголочку — как бусы, чтоб они остались в плане планеты. Я ратую за масштаб, экологию и популяцию.
Она тогда сказал мне:
— Если ты сейчас такой, что же будет лет через десять, — и вытерлась мужским клетчатым платком.