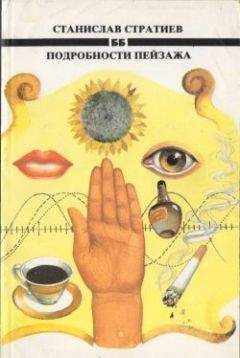Александр Шленский - Загон предубойного содержания
— Ну что, Верунька, твой-то всё так же во сне людей и убивает? — громким шёпотом спросила Веру вдовая кладовщица Валя, наклонясь к её уху. Овдовела она год назад, после того как её муж-милиционер по пьяному делу разрядил служебный Макаров себе в голову.
Вера молча сухо кивнула головой и осторожно по очереди промокнула носовым платком уголки глаз.
— К доктору сводила его, али нет ещё?
— Своди его, попробуй… мой ведь, он если сказал, что не пойдёт, значит и не проси…
— Может, ты тогда это… — разведёшься с ним? А то мало ли, как бы дурного не случилось.
— Молчи ты, Валька! — испуганно взвилась Вера. — Неровён час кто услышит, да передаст ему такие речи… Мне ж тогда не жить! Да он и тебя, советчицу, пришибёт. Справлюсь уж как нибудь…
— Ну смотри, подружка. Я тебя уберечь хочу… страшно мне за тебя! Мой-то, ты же не знаешь, он перед тем как себя… он перед этим чуть меня с детьми… — Валя, не договорив, потерянно и жалко махнула рукой и прижала к повлажневшим глазам широкие рукава казённого халата грязно-синего цвета.
***
Проводив в «столовую» очередную партию овец — "Фрих! Дрих! Фрих! Дрих!" — Царандой постоял с полминуты, а затем медленно, словно раздумывая, подошёл к бывшему профессору. Тот спокойно подрёмывал, лёжа на соломе.
— У меня небольшой перерыв, уважаемый коллега. Желаете побеседовать?
— Мне кажется, именно в данный момент вам не стоит называть меня коллегой…
— Совершенно напрасно. Вы ведь были философом… А философы являются духовными вождями. Ну а вожди, как вы сами говорили, всегда ведут народ прямиком на убой. Так что, колле-е-ега, прошу любить и жаловать! Хотите, развлеку вас чтением стихов собственного сочинения?
— Ну что ж, извольте.
Царандой игриво повёл рогами, слегка присел на задние ноги и с чувством продекламировал:
Скрипит кувалда на ветру
Отбойным молотком
Койоты воют поутру
Шершавым языком
Господь не умирал в тюрьме
Он в ней всего лишь спал
Но по проспекту Мериме
Проехал самосвал
И лунный свет сорвался вниз
Чтоб в бледном мире жить
Но Морж и Плотник собрались
Кого-нибудь убить
Как сухо море — молвил Морж
И волны так мелки
Давай кого-нибудь убьём
И выпустим кишки
Распилим кости и хрящи
И вырежем язык
И непременно сварим щи
И сделаем шашлык
О, Устрицы, придите к нам
Я вас люблю как бык!
Не надо, — Плотник отвечал
Плохой из них шашлык
И долго он ещё ворчал
Закутавшись в башлык…
— Кэрроловский "Морж и Плотник" в переложении для мясокомбината? Забавно… И часто вы развлекаетесь стихосложением?
— Почти постоянно. Иначе на такой работе с ума можно сойти. Ужасный век, ужасная судьба…
— "Ужасные сердца" — непреклонно поправил Цунареф собеседника. — А судьба ваша должна послужить всеобщим предостережением и напоминанием о том, что даже после смерти не стоит идти на компромисс с собственной совестью.
— Вы как всегда правы, дорогой Цунареф, и засвидетельствовав сей факт, я должен вас покинуть. У меня по расписанию намечается очередной "Фрих! Дрих!".
Вероятно, с каждой новой партией овец безоаровый козёл отводил на убой остатки собственного благородства, и поэтому держал себя всё более отвратительно. Он гадко подмигивал, нарочито шепелявил, издевался словесно, переплясывал на копытах туда и сюда, вонял, приседал на ляжки, тряс бородой и сыпал непристойностями. Удивительнее всего было то, что чем более мерзко кривлялся перед народом новоявленный вождь, тем охотнее и радостнее шёл народ за ним на убой. Через пару часов всё было кончено. Загон опустел… Обессиленный Царандой нервно схрумкал последний кусок сахара и с утробным стоном рухнул на подстилку. Его холка и ляжки тряслись мелкой дрожью, а из зажатого спазмом горла рвался напряженный болезненный хрип: "Фрих… дрих… фрих… дрих…".
Бывший членкор Академии Наук лежал на грубой соломе, положив увенчанную витыми рогами голову между передними копытами, и голова эта была наполнена скорбью о неведомой и страшной судьбе мироздания. Он только сейчас, перед самым концом своей парнокопытной жизни — а что это конец, он ни секунды не сомневался — научился правильно понимать множество вещей, которые он раньше пытался подстроить под философский категориальный аппарат, в муках рождённый предшественниками из нескольких тысячелетий, а они никак не желали подстраиваться…
Он думал о своём потрясающем открытии, сделанном им в в тот самый момент когда он твёрдо встал на четыре изящных и крепких копыта: об изумительном чувстве единения с природой, до такой степени тесном и прочном, что красота и истина сливаются воедино и ощущаются постоянно — не телом и не душой, а их изначальным и неразделимым сплавом, которому в языке прямоходящих и вовсе нет названия. В это великое и всепоглощающее чувство была спрессована невыразимая радость вольного движения, полнота насыщения ароматной едой, растущей на лугах, чистой водой, грациозной и влекущей к совокуплению самкой, чутким звериным сном, красотой и целесообразностью окружающей природы, радостью победы над постоянной опасностью — иными словами, всей предельно насыщенной разнообразными ощущениями звериной жизнью, которая столь разительно отличалась от долгой, но тоскливой и бесплодной жизни кабинетного учёного. На ум ему неожиданно пришли лермонтовские строки:
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы…
Нет, всё это совсем не так… Не могут эти жалкие прямоходящие быть вольны как орлы, ибо они передвигаются на двух неуклюжих подпорках, а не летают на могучих крыльях… Поэтому и тревоги, и битвы у них тем более жалки, чем более страшное оружие они изобретают… Тревоги и битвы не делают прямоходящих свободными, а лишь порабощают ещё больше, ибо сражения, в которых они находят свою смерть — это не борьба, в которой совершенствуется их вид, а взаимный и бесцельный массовый убой…
Он ещё не осознавал явно этой фатальной безнадёжности, тупиковости, того самого экзистенциального ужаса, который открывает себя в полной мере лишь самым прозорливым и чутким людям, он постоянно оглушал себя гуманистическими идеалами как наркотиком, но в страшные минуты отрезвления та самая лермонтовская "думы власть" звала его более не к тревогам и битвам просветителя и полемиста, а в келью учёного-отшельника, где он надеялся найти верное понимание сути сложнейших явлений, происходящих в общественной жизни. Найти новое понимание природы вещей, которые казались столь осязаемы, зримы и реальны в прошлой жизни — в жизни оторванного от корней и затерянного в неведомом мире двуногого мыслящего существа — а в нынешней жизни рассыпались в тлен. Любой философ знает, как трудно войти в герменевтический круг, но никто не подскажет, что делать, если ты нечаянно вышел из него на четырёх копытах… Сколько сразу всего лишнего, не имеющего смысла… треугольники Паскаля, круги Эйлера, квадраты Малевича… зачем они?..
"Я мало жил, и жил в плену"… В плену заблуждений относительно природы общественных явлений, идеальных явлений, относительно человеческой природы, относительно природы вообще…
Примитивные быстро размножающиеся существа типа муравьев без колебаний жертвуют собой ради блага своей колонии. У них напрочь отсутствует индивидуализм, они живут по формуле "солдат — навоз истории". Врождённый индивидуализм высших животных дан этим видам для выживания, взамен утраченной способности к быстрому размножению. Этот механизм охраняет вовсе не самого индивида, но популяцию в целом через индивида, стремящегося выжить. Ни одно живое существо в мире, кроме прямоходящих, не поднимает охранный инструмент своего вида, свой природный индивидуализм до уровня осознания собственной души, которое парадоксальным образом ставит его на стражу интересов самого индивида и в ущерб популяции.
Ни одно живое существо в мире не боится смерти так сильно как прямоходящие, не цепляется так яростно за свою жизнь, не обладает столь неистовым желанием избегать страданий и получать бесконечную череду наслаждений, не мечтает о бессмертии с такой страстью, что в его разуме, омрачённом ужасной способностью мыслить абстрактно, рождается вера в бессмертную душу, которая живёт в бренном теле как рыбка в банке, и после того как банка разобьётся, продолжает вечно плавать сама по себе.