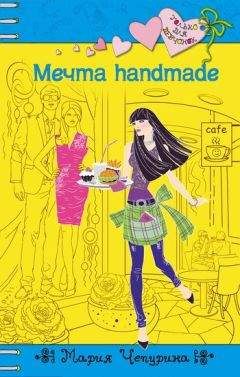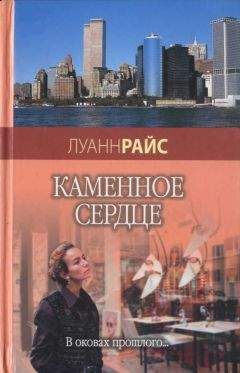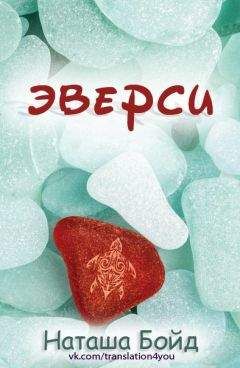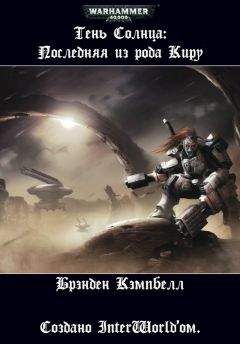Надежда Григорьева - Rosa Canina
— Но я не мог купить там ни апельсина, ни лимона, чтобы отбить запах скумбрии от рук. Ну, ладно я, но зачем там ели все эти награжденные писатели? Я не видел ни одного щедрого русского писателя. Анальный комплекс, вообще способствующий литературному творчеству, осложняется у русских страхом нищеты и делает писателей по-настоящему знакоозабоченными.
— И когда после ее смерти ее муж находился в больнице уже со вторым инсультом, уже в России, эта странная смерть. Инсульт был, но от него он бы не умер. Это было самоубийство. Но это было самоубийство ее рукой. Он просто выдернул себе капельницу сам, ночью, когда весь персонал спал. Конечно, его не спасли…
Разговор прекратился, ключ заворочался в замке, дверь открылась, и Иван, быстро повернувшись, просунулся между выходящими. Петька только и видел, что пару быстрых подошв Ивана, промелькнувших и растаявших в воздухе. Он никогда не вернется. Никогда.
У Петьки, глядящего в рот собаке, заболела шея от долгой наклонки, и он распрямился. Верхняя собака по прежнему глядела в рот своей нижней товарке. Тогда он перестал читать текст и посмотрел на хозяина вопросительно, желая, чтобы он понял без слов его просьбу впустить его в дверь, но тот лишь убрал свечу, видя, что Петька уже не интересуется текстом распоряжения, а значит, не нуждается в свете. Видишь, как я его изнасиловал? Как я его уел, а, Петька? Я не оставил ему конца, как женщине не оставляет конца насилующий мужчина, ибо ему наплевать, кончит она или нет.
Петька задумчиво сосал головку Павла, оттягивая крайнюю плоть. Рука его что-то записывала на клочке бумаги. Павел заметил, как из ушей Петра капает гной, а по члену Павла, который Петр держал во рту, сочится кровь. Павел испугался и сделал движение, чтобы выдернуть свой член, но смысла в этом уже не было: через мгновение на месте Петра тлела лишь кучка пепла. Поверх праха лежал свежеисписанный листок бумаги, на котором Павел прочел:
Знаешь, Павел, мое Sein fur das Andere, мои Leben und Tod возмущены до предела случайным камнем, (у)(по)павшим в их глухие воды, и я не хочу, чтобы ты убил меня за их метаморфозу, как ты это делаешь со старшими по работе, подсовывая им на пиру кооперативную водку, от которой они блюют и валяются как бревна. Ты хочешь занять их место, мой педерастический Эдип. В этом есть резон. Но меня тебе ни к чему «мочить» — ты так привык меня мучить, что не проживешь без этого наслаждения дня и скапутишься раньше своих пожилых соперников. Мой аристократический плебей, мой длинноногий казачий офицер с православными регалиями — как же я тебя ненавижу. Как мне скрыться от тебя, от твоего мучительного ока, как раствориться на зеленом фоне дешевенького русского пейзажа, мимикрируя под ель ли, под тую ли, пока ты не растворил меня в воздухе, не рассеял меня в весеннем ветре? Пусть я подберусь к началу и возьму непочатую часть романа, которую мы, якобы, ощупали несколько раз, прежде чем начать, но вдруг она оказалась слишком тощей и как под гору на финских санях (несколько раз перекрестившись не от страха быстрой езды, а от ужаса словесного «наговора», ведь если сбудется то, что я вру, мне не жить, и никакой мудак Павел не спасет) — исчезла, разлетелась в пыль, оставив после себя ощущение пустоты. Допустим, дразнящая горка клубники, клубящаяся в кровавых клубнях выдавленного сока, которая вдруг полетела под стол прямо на испражнения домашнего животного, сейчас, сейчас, забыл какого, (Петька заглянул в шпаргалку и пошел дальше вышагивать комнату, меряя диагонали), ах, да, собаки, бульдога Перезвона, к примеру, но больше не могу, устал, мысли плавятся на этой жаре.
Петька подошел к столу и выпил стакан воды, предварительно вынув оттуда полевые ромашки, стоящие уже пятый день. Можно было бы и не сочинять это письмо: ведь Павел уже мертв.
— Я все вижу и слышу, — послышался голос Ивана Федоровича откуда-то сверху.
Петька вздрогнул и перекрестился: легко ли услышать в Петербурге голос любимого человека через час после того, как самолично усадил его на самолет, летящий в Париж.
— Я тебя убью, — продолжал спокойно голос Ивана Федоровича.
— За что? — спросил Петька невидимку. Его начинал постепенно одолевать страх: вот уже второй его любовник за эту неделю угрожал ему смертью. Эти угрозы не вписывались в общий сюжет, взятые вместе, но по отдельности их можно было как-то классифицировать. На основе сюжета Павла Петька смонтировал бы нарратив-переходник от Достоевского (Рогожин) к Бунину (казачий офицер), но неожиданные угрозы со стороны Ивана Федоровича ломали привычный русский канон бесхребетного, трусливого аристократа, боящегося потерять в своей страсти голову, общественное положение или, в крайнем случае, сравнительно чистую совесть, ибо запятнать ее наемным убийством, которое сейчас в России страшно дешево, было очень легко и, главное, совершенно безопасно.
— За что? — повторил свой вопрос Петька.
— За то, что я боюсь твоего существования, — ответил голос Ивана Федоровича.
— Где вы, Иван Федорович, я вас не вижу, — ласково позвал Петька.
— Я здесь, — вышел из-за портьеры Иван Федорович. — Но я все равно убью тебя днем раньше или днем позже — не имеет значения.
* * *— Я все читаю, читаю, уже устал читать. Все равно истина не прочитывается, — сказал Петька, взглянув красными глазами на Ивана Федоровича.
— Не прочитывается? — Иван Федорович задумчиво пососал трубку. — А ты попробуй почитать еще.
— Я все время читаю, читаю, так что уже устал читать. Все равно истина не прочитывается, — сказал Петька, взглянув усталыми глазами на Ивана Федоровича.
— Не прочитывается, никак? — Иван Федорович отложил трубку. — А ты попробуй почитать еще.
— Я все читаю, читаю, уже совсем-совсем устал читать. Все равно ведь истина, это самое, не прочитывается, — сказал Петька, взглянув красными усталыми глазами на Ивана Федоровича.
— Не прочитывается, ты уверен? — Иван Федорович выбил трубку. — А ты попробуй почитать еще.
— Ну вот, я читаю: я все читаю, читаю, уже устал читать. Все равно истина не прочитывается, — сказал Петька, взглянув красными глазами на Ивана Федоровича.
— Не прочитывается? — Иван Федорович задумчиво пососал трубку. — А ты попробуй почитать еще.
— Так ведь я только и делаю, что все читаю, читаю, уже устал читать. Все равно истина не прочитывается, — сказал Петька, всмотревшись укоряющими глазами в портрет Ивана Федоровича.
— Не прочитывается? — Иван Федорович дрогнул рукой, в которой зависла трубка. — А ты попробуй почитать еще.
— Я не знаю, что делать: все читаю, читаю, уже устал читать. Читай не читай: все равно истина не прочитывается, может, дать ей отдохнуть, тогда она выползет сама? — спросил Петька, вскинув красивые глаза на бюст Ивана Федоровича.
— Не может быть, что не прочитывается, — Иван Федорович заерзал на постели. — Могу я попросить тебя почитать еще немного?
— Я все читаю, читаю, уже устал читать. Все равно истина не прочитывается, сказал Петька, взглянув заплаканными усталыми глазами на икону Ивана Федоровича.
— Не прочитывается? — Иван Федорович сплюнул табачную слюну и посмотрел на круги, расходящиеся по тихой воде бухты. — А ты попробуй почитать еще.
— Ди Хефтихкайт фон Ницшес Фрауэнлихкайт ист айн ауф айнен анайнгештанденен Найд гезетцтер Штопфен: айн Ман кан кайнен Оргазмус фортойшен. Зайн Штифт мус шрайбен одер зих альс импотент эрвайзен.
— Хорошо, хорошо! Еще!
— Фюр ден деконструктивен Философен, дер йеглихе (фаллогоцентрише) Зеензухт нах айнер трансцендентен Вархайт альс Уршпрунг одер Эндпункт земиотишер Ферхальтунген фюр потенциэль «зимптоматиш» хальт, нимт дер Штиль дер Фрау айнэ экземплярише Квалитэт ан, да зайн Штиль ан ди Абхэнгихкайт фом Штилус одер Штилетто дес Фаллус гебунден бляйбт.
— За… замечательно… давай… давай…
— Дэн, ум Деррида бай дер Лектюре фон Ницше цу цитирен: зи шрайбт (зих). Зи ист ес, дер дер Штиль цукомт. Генауэр: вар дер Штиль дер Ман (ви дер Пенис нах Фройд "дер нормале Прототюп дес Фетишс"), зо вэре ди Шрифт ди Фрау. Хир гешихт филь.
— Да… да… хир гешихт филь… давай… Arbor… Возьми мой Geum rivale, мой Potentilla anserina, мой нежный Rubus arcticus. А я возьму твой Sanguisorba officinalis, твой сладкий Crataegus sanguinea…
Петька помахал руками, чтобы возобновить нормальное кровообращение. Тело Ивана Федоровича с посиневшим лицом и вывалившимся языком лежало безжизненно на постели, устланной розами, пионами, нарциссами. Задушить человека оказалось не так-то просто, но незнание убийцей болевых точек шеи с лихвой окупилось старанием жертвы соответствовать намерениям душителя. Хрипевший Иван Федорович не делал ничего, что бы могло помешать Петьке исполнить его намерение, и глядел на него в течение процедуры влюбленными глазами, что плохо сочеталось с неловкими движениями рук убийцы, никоим образом не вызывавшими восхищения.