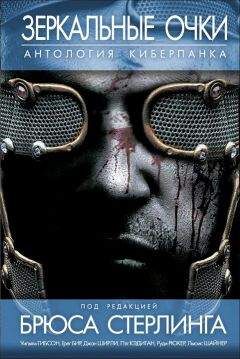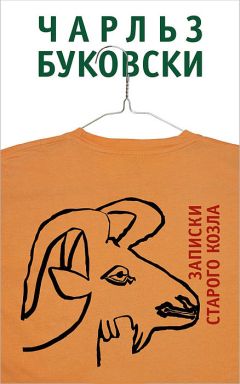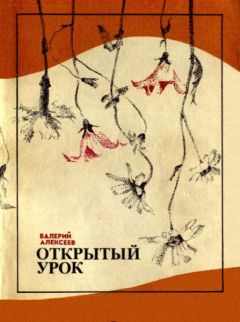Юрий Домбровский - Факультет ненужных вещей
И Яша, Божий человек, взял кружку и молча опорожнил ее до дна. Потом опять обтерся ладонью, округлил губы, сделал сильный круглый выдох.
– Ее душенька еще тут, возле нас ходит, она сорок дней тело сторожит, – сказал он.
– И видит нас? – спросил Нейман.
– А как же, – усмехнулся Яша. – Она все видит. Вот мы плачем, и она с нами плачет: мы о ней, а она о нас, только слезы у нас едкие, земные, а у ней сладостные, небесные, легкие.
– О чем же она тогда плачет? – спросил Нейман.
– Об нас. От умиления и жалости она плачет, – ответил Яша, – ах вы мои близкие, ах вы мои сродные. Да что же вы обо мне так плачете, разливаетесь? Мне уж теперь хорошо, ничего ни от кого не надо. Теперь все земное – смерть, любовь плотская, горесть, гонения – это все вам осталось. А я теперь легкая, белая, наскрозь, наскрозь вся светлая. Все земное, как тряпку, я сбросила и в вечное облачилась. Оно уже на веки веков при мне, никакая сила его отнять у меня не может! Пожалуйста! Благодарим! – И он протянул пустую кружку старику.
– Это если она овца, – сказал старик и строго взглянул на Яшу. – А если не овца она, волк? Как тогда? – Он налил себе кружку, выпил ее не торопясь; налил Нейману, подождал, когда он выпьет, и продолжал: – Тогда она вся страхом исходит: «Ах, что же мне теперь будет? Да где же я теперь свой спокой найду? Ведь только сейчас мои мучения и начинаются, а конца им и не видится». Вот оно как!
– Разрешите добавочку? – попросил Божий человек и подставил кружку. – Благодарствую. – Он спокойно осушил все до конца. («Ну вот», – буркнул старик.) – Это мы, Тихонович, никак знать не можем, скрыто это от нас, но намеки, – он повысил голос, – но намеки имеем! Помните разбойника, что вместе с Христом был распят? Ведь он поделом муку принимал. А что ему Христос сказал? «Ныне же будешь со мной в раю». Как же так он ему сказал-то? Разбойнику, а? Ведь он убивал, сиротил, грабил?..
– Так ведь он покаялся, – недовольно ответил старик, – он ведь сказал: «Помяни, Господи, мя в царстве своем».
– А-а-а! Сказал! Вот это уж другой разговор! – согласился Яша. – Это вы действительно в самую точку бьете. В смертный час воззвал разбойник: «Спаси!» – и спасен был. Вот так и мы. Если воззовем от сердца, то и получим. Но только надо все это без всяких хитростей. А то мы ведь мастера на это. Мол, заставили меня! Делал и мучился. Или: дети! Это я за них своей совестью поступился! На эти штучки мы куда как востры! Нет, там это не принимают. Там знают: это опять в тебе тот же черт коленками заработал. Нет, ты другое пойми: от людей тебе прощенья нету! На то они и люди, чтоб не прощать, а взыскивать. Ты никого не жалел, и тебя никто не пожалеет. А вот там другое. Там смысел нужен. Вот до него ты и должен дойти. Хоть в самый свой остатний час, а должен! Он не с земли, он с неба нам даден! Смысел!
– Ну и что тогда будет? – покачал головой сменщик. – Что, другую шкуру тебе выдадут, что ли? Вот, мол, Яша, тебе новая кожура – иди заслуживай, был ты Яша, стал ты Маша. Так иди. Маша, добывай Яше рая. Нет, я тут что-то никак в толк не возьму. Сколько время ты грешил и вдруг...
– Да нет, ты вот что в толк возьми: смысел! – крикнул Яша и так разволновался, что вскочил. – Тут дела твои и время ни при чем. Тут что минута, что миллиарды лет – все одно. В Ветхом завете этого не было – там время было. А для Христа – время нет! Ему твой смысел важен, чтобы хоть в последнюю секунду уразумел все. Он всю жизнь твою в эту секунду сожмет. За одну эту секунду он даст тебе ее снова пережить. Вот почему он Спаситель.
– Значит, хорошо получается, – сказал насмешливо старик. – Был у нас такой Мишка Краснов, поповский сынок. Ну сволочь! Ну пес! Отца его красные стрелили, а он рядом стоял с красным бантом, плакал в платочек и поучал его: «Сами виноваты, папаша. Я вас упрежал!» И, с белыми, и с красными, и с зелеными, и с какими-то желтыми – со всеми, пес, нюхался. Потом уехал в город. Учиться. Приехал комиссаром. Весь в черной коже, сапоги новенькие, до самых до... Ходит, блистает. Наган на боку. Царь и Бог. В соседней деревне пять жилых домов осталось. Кто сбег, кого застрелили, кто с голоду сам пропал. Девкам проходу не давал. Встретит какую гладкую и: «Приходи, Марья, я с тебя допрос сниму». Ну и снимал всю ночь. И доснимался. Вышло письмо о головокружениях. А потом приказ – забрать поповского сына Мишку! Приехали его забирать! А он, паразитина, стоит на коленках в пустой хате дьячковской и поклоны бьет. Во какой шишак себе набил! И базлает. «Господи! – базлает. – Прости мне все великие прегрешения! Господи, смилуйся! Батя мой, мученик безвинный, моли Господа за меня!» И башкой раз! раз! – об пол. Это в пустой хате! В той, где он всю семью перевел. Ах пес! Ах холера тридцатого года! Говоришь, разбойник на кресте покаялся? Так этот и до креста покается! Да еще как! Он на собраниях, как шило, навострился. Только слушай его!
– Так от чистого сердца нужно! Ты! – крикнул Яша.
– Ах от чистого? А он не от самого что ни наметь расчистого? Ну как же: гавкал-гавкал, ломал-ломал! Все ордена, дворцы заслуживал, а заслужил рогожку! Ну и схватился, конечно, за башку! «Ах я дурак! Ах я такой-то! Ах я сякой! Где же у меня глаза-то были? За что же я совесть свою, отца продал? За что боролся, на то и напоролся!» И это у него от чистого, от самого чистого пойдет!
«Да, тут уж не разберешься, – подумал Нейман. – Тут уж, очевидно, просто веровать надо. А я разве во что верю? И вот тоже конец мне пришел, а с чем я остался? Ведь даже „Господи, Господи“ крикнуть и то некому!»
Уже почти совсем рассвело, когда Нейман встал, и отошел от костра. Яша – Божий человек – спал по-ребячьи, калачиком. Его желтое, узкое лицо, изрезанное хитрыми морщинами, лицо не то юрода, не то гения, не то просто хитрого и юркого прощелыги, было ясно и спокойно.
Сменщик вывел Неймана на высокий берег в степь и сказал:
– Вон видите фонарь? На него прямо и идите. Это контора, она на бугре. Там обязательно кто-нибудь есть. Либо сторож, либо уборщица.
– Спасибо, – слегка наклонил голову Нейман. – Я оттуда сразу позвоню в город, скажу, чтобы прислали к вам.
Когда он вышел в степь, небо на востоке было уж совсем светлое. Туда, в холодную, желтую ясность эту, летели черные птицы. Не стаей, а сеткой, точками, то падали, то поднимались. Такое большое рассветное небо над степью он видел впервые. И поэтому стоял и смотрел до тех пор, пока птицы не исчезли. Дул легкий косой ветерок. Земля лежала седая, растрескавшаяся, и из нее росла тонкая и длинная, похожая на конский волос трава. Он увидел большой белый куст и бросил на него зажженную спичку. Куст сразу же занялся весь прозрачным водородным пламенем, пока огонь не упал и судорожно не задохнулся на твердой, как глиняный горшок, почве.
Дом на бугре стоял тихий и темный, но он хитро обошел его, зашел со двора и увидел, что заднее окошко за белой занавеской светится. Он постучал, никто не ответил. Он постучал, еще раз – метнулась кремовая тень и встала, присматриваясь. Тогда он стукнул трижды – четко, резко, сильно. Занавеска чуть колебнулась, и женский голос спросил: «Кто там?»
– Отворите, – сказал он. – Следователь. – И, внутренне усмехнувшись, про себя добавил: «Пришел сдаваться».
Как он вошел, так и застыл у порога. Перед ним в тусклом желтом свете стояла, придерживая полы халата, Мариетта Ивановна.
– Господи! – сказала она облегченно, узнав его, и упала на табуретку. – А я-то... Откуда?
– А-а-а...? – начал он, да этим и кончил: больше у него не получилось ничего, но тут стояла вторая табуретка, и он тоже рухнул на нее.
– А вы? – спросил он безнадежно.
– Так я здесь второй месяц! – ответила она. – Господи, как же я испугалась: следователь! – Она засмеялась. – Надо же! Перевели меня сюда на время отпуска заменить заведующую, вот и ишачу. Так я же вам звонила, приглашала на именины. Ваша племянница подходила.
– Да, да, да.
Он провел ладонью по голове. Болела даже не голова, а вся кожа, шкура, волосы.
– А Глафира? – спросил он. – Ведь она...
– Так она моя сменная! Живет на станции. А вчера ее... слушайте! – Ее глаза вдруг округлились и побелели от ужаса. – Следователь?
«Да, хорошенькая история, черт бы меня побрал, – подумал он, – как нарочно! И ведь несет же меня куда-то бесу под хвост! Ладно! Сейчас я пьяный – и ничего не помню, не знаю и знать не хочу!»
Он поднялся, подошел к Мариетте и положил ей руку на шею.
– Нет, нет, – сказал он, – какой там следователь! Это я так – шутейно. Попугать вас, дурак, хотел. Какой из меня, к дьяволу, следователь?
– Ой, да вы весь пылаете! – воскликнула она. – Ну конечно, в одном плащике ночью в степи – здесь знаете утром какие холода! Вот что: ложитесь-ка. Я сейчас вам постель разобью. Да вы же мокрый, потный!
– А вы? – спросил он ее и перехватил ее за плечи.
– Я приду, приду! Мне сейчас товар принимать. Приму и приду. Его нам с ночным поездом привозят. Вон! Уже гудят. Это мне сигнал подают. Ложитесь, ложитесь. Я враз освобожусь. Боже мой, да вас хоть выжми! Наверно, с этими геологами пили? Ну да, у нас тут целая партия их работает. Ой, Яков Абрамович, ведь они же все молодежь, а вы...