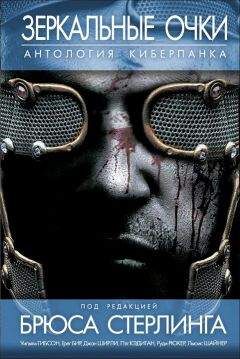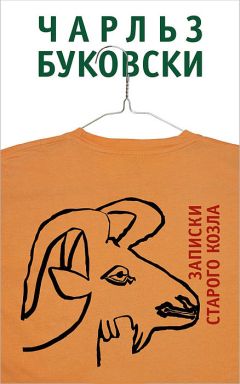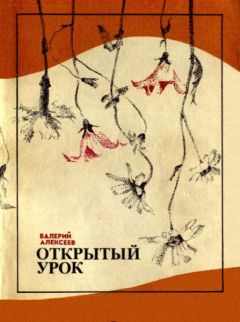Юрий Домбровский - Факультет ненужных вещей
Он лежал недвижно, на его лбу набухала красная груша. Она опустилась на колени и осторожно подняла его голову. Под ее пальцами все время по-стрекозиному билась упрямая тонкая жилка, пальцы у нее стали липкими.
В Большом доме по-прежнему стояла тишина, шла ночная смена, никого не было на этом этаже, кроме них двоих, и она стояла перед ним на коленях, держала его голову и повторяла сначала тихо, а потом уже громко и бессмысленно: «Ну что же я... Ну что же я... ну что же я в конце концов...» А трубка висела, раскачивалась, и в ней уже слышались голоса.
Так их и застал конвой.
– ...И вы так ни разу не болели? – спросил Штерн. – Ну, чудо! Ну просто чудо, и все... В больнице-то хоть раз лежали?
– Да нет, не лежал, – ответил Каландарашвили и вдруг как-то очень прямо, с улыбкой поднял на Штерна глаза. «Ты вот мне подыгрываешь, а я с тобой не играю», – поняла его улыбку Тамара.
Они сидели в отдельном кабинете ресторана НКВД. Помещался этот ресторан в самом Большом доме, в нижнем этаже его, и поэтому окна их кабинета выходили на двор – на длинное и низкое здание внутренней тюрьмы. Но сейчас тюрьмы видно не было. Ее закрывали нежно-золотистые занавески. И от этого в кабинете стоял тихий, мягкий полусвет, и все выглядело уютным, белым и спокойным: скатерть, бокалы, фарфор, серебро.
– Да, но тогда вы поистине железный человек, – вздохнул Штерн, – не то что мы, совслужащие, люди эпохи Москвошвея. У нас и то и се; и гастрит, и колит, и бронхит, и еще черт знает что. Но я вам вот что скажу: лагерь у вас тоже был какой-то особенный, не лагерь, а северная здравница! Ну как бы там ни было – за ваше! За ваше мужество, жизнестойкость, жизнерадостность, Георгий Матвеевич, за то, что вы с нами. Тамара, а как вы?
– Я не буду, – ответила она тихо.
– Ну и не надо, дорогая. Не надо! Красивая женщина не должна пить. А вот мы за вас... Ух, хорошо! Давно такой коньяк не пил. И все-таки, Георгий Матвеевич, какой же лагерь-то у вас был? Может, инвалидный какой-нибудь?
– Да нет, – пожал плечами гость, – зачем инвалидный? Лагерь как лагерь. Как все концлагеря Советского Союза: зона, барак, колючая проволока, частокол, вышка, часовой на вышке, за вышкой рабочий двор, ночью прожектора. Подъем в семь, съем в семь. Уходишь – темно, приходишь – темно. Рабочая пайка – семьсот граммов, инвалидная – пятьсот, штрафная – триста. Вот и все, пожалуй. Если не касаться эксцессов.
– А если касаться?
Старик поднял бокал из дымчато-рубинового стекла с геральдическим золотым леопардом в медальоне и посмотрел его на свет. Потом слегка щелкнул по краю – звук получился нежный, печальный, замирающий.
– Фамильная вещь, – вздохнул старик. – Венецианское стекло. В музей бы его. Если касаться эксцессов. Роман Львович, жизнь там была тяжелая. Бывали времена, когда утром не знаешь, доживешь ли до вечера. Ну да вы сами знаете, что было.
Лицо Штерна сразу посуровело.
– Не только знаю, но вот этой рукой, что поднимаю за вас бокал, подписывал обвинительное заключение. Все эти негодяи прошли по военному трибуналу. Так что большая часть из них вот... – Он слегка щелкнул себя по виску.
– Да? – взглянул на него старик. – Хорошо.
– А вот в лагере заключенные небось об этом ничего не знают, – усмехнулся Штерн. – Думают, что они сейчас домами отдыха командуют. Так?
Старик усмехнулся.
– Да нет, пожалуй, не совсем так. Что их расстреляли – в это верят.
– И что ж говорят об этом?
– Да разное говорят. Одни говорят, что это были японские шпионы и их за это расстреляли...
– Здорово! Умно! А другие?
– А другие говорят, что это были советские люди и их тоже за это расстреляли.
Тамара не выдержала и хмыкнула.
– Да, – согласился Штерн и тоже улыбнулся. – Смешно, конечно («Смешно», – подтвердил старик), но ведь и печально, Георгий Матвеевич. Неужели никому из этих здравых взрослых людей не приходит в голову самая простая мысль, что все эти расстрелы были вражеской диверсией – и не японцев, конечно, нет, это глупость! – а вот этих бандитов-троцкистов, ягодинцев, блюмкиных – людей, у которых руки по локоть в крови?! Неужели не приходит?
– Нет, – покачал головой старик, – это в голову никогда не приходило. – Он вдруг усмехнулся. – Да и как оно может прийти? Ведь все мы были диверсанты, их люди. Так, значит, диверсанты пробрались в лагерь, чтоб уничтожить свои же кадры? Зачем? Непонятно.
– Чтоб возмутить народ! – вставила Тамара.
Старик повернулся к ней.
– Да, действительно, очень нужны мы, диверсанты, советскому народу. Ведь на следствии нам растолковывали, что народ все знает и ненавидит нас как бешеных псов и наймитов капитала. Поэтому, мол, и дети отрекаются от отцов, а жены сажают мужей. И разве вы сами не говорите своим подследственным, что если бы не органы, то народ давно бы разнес нас по кусочкам («К счастью, еще не успела», – подумалось Тамаре), нет, мудрено! Очень это уж мудрено, Роман Львович. Никак эта сложнейшая стратегия не уместится в наши примитивные зековские головы.
– А что власть может без всякого закона уничтожать своих граждан – это в примитивные головы легко укладывается? – горько покачал головой Штерн. – Эх, люди, люди! Граждане великой страны, творцы пятилетки! И легковерны-то вы, и слабы, и малодушны, и как только прижмет вам палец дверью, готовы вы... Да что говорить? Сам человек и сам, наверно, такой!
– А бить эта власть может, – сурово перебил его старик, – а отбивать легкие на следствии она может? Сажать отца за сына она может? А «слушали – постановили» – это что такое? Мы же юристы, Роман Львович, так скажите мне – что же это такое? А?
Штерн пожал плечами.
И по кабинету на мгновенье, как призрак, прошла короткая, до предела напряженная, душная тишина. Тамара привстала, взяла графин, налила себе половину фужера и выпила. Все молча, отчетливо, резко.
– А вас били? – спросил Штерн обидчиво. Ему испортили его любимейшую арию, не дали допеть до конца.
– Меня нет, – с каким-то даже сожалением покачал головой старик. – Нет, меня они что-то не били. Слушайте, Роман Львович, да я отлично знаю, что это делала не Советская власть.
– Тогда кто же?
– Не знаю. Черт! Дьявол! Сумасшедший! Но только умный сумасшедший! Такой, который отлично все понимает. Ведь как было? Приезжает...
– Георгий Матвеевич, милый вы мой! – вдруг взмолился Штерн и поднял к груди обе толстые волосатые руки с золотыми запонками. – Ну зачем нам опять все это? Пайки, расстрелы, карцеры! Ну к чему они? Вот графинчик, вот закуска! Я виноват – завел эту бодягу, а дама вон уж соскучилась и начала без нас. Давайте и мы...
– Нет, я вас очень прошу, продолжайте, – сказала Тамара железным голосом. – Приезжает...
Старик посмотрел на Штерна, тот вздохнул.
– Да, заставили мы даму ждать, заставили! Вот она и... Нехорошо!
– Приезжает... – повторила Тамара зло, не сводя глаз с Каландарашвили.
– Ну, если вам так уж угодно... – слегка пожал плечами старик. – Приезжает на рабочую трассу новый начальник. Пять машин, охрана, свита, женщины в белом, штатские. Их уже неделю ждали. Работают вовсю. Тачки по доскам так летают, что доски гудят. Бригадир ходит, поглядывает, покрикивает. Как будто никто никого и не ждал. Обычный бодрый лагерный денек. И вдруг – «Внимание!» Все застыли. Пять машин. Вылезает из первой самый главный начальник и подходит к бригадиру. Здоровается. Принимает рапорт. «Ладно. Одень, одень шапку! Это твои все орлы? Та-ак! А что же ты, бригадир, с такими орлами план-то не выполняешь, кубики стране не даешь? Ведь ты у меня в отстающих числишься. А?» – «Да гражданин начальник, да я бы... Но ведь то-то и то-то...» – «Та-ак! Объективные причины, значит? Работаешь по силе возможности? Кто ж у тебя главный филон?» – «Да филонов нет, а вот такой-то, верно, отстает». – «Да? А ну, такой-то, подойди сюда». Подходит такой-то. «Вот ты какой, значит! Хорош! Слышал я о тебе, слышал. Какая статья-то? ОСО? Что, КРТД? А! Троцкист, значит? Бывший партийный работник? Что ж ты, бывший партийный и такой несознательный? Тебе власть дала полную возможность заслужить перед народом свои преступленья, а ты все гнешь свою линию? А? А?» – «Да болею я, гражданин начальник. Сердце у меня! Ноги все в язвах – вот, взгляните!» – «Закрой, закрой! Не музей! На то врач есть, чтоб глядеть! Врач, ну-ка иди сюда. Так что ж ты мне больного-то на работу выгнал? Ведь вот он говорит, что еле ходит, а ты гонишь его на работу! Как же так?» А врач тот же заключенный. У него зуб на зуб не попадает. Он сразу в крик: «Да какой он больной, гражданин начальник! Филон он, филон! А на ногах сам наковырял!»
– Да, вот так они и губят друг друга, – солидно вздохнул Штерн. – Правда, правда.
– Да нет, врач тоже не виноват! У него же норма! Не больше двух процентов больных. Так те проценты все на блатных уходят. Они к нему на прием с топором приходят! «Так, значит, говоришь, злостный филон. Как был врагом, так им и остался? Да? Нехорошо! Ладно! Мы с ним поговорим, убедим его! Посадите в машину». Все. Походили. Уехали. А через неделю приказ по ОЛПам: «Такой-то, осужденный ранее за контрреволюционную троцкистскую деятельность на восемь лет лагерей, расстрелян за саботаж». Вот и все. А то и еще проще. Тащили двое работяг бревно и один носком зашел за зону, то есть черточку на земле пересек. Конвоир приложился и положил его. Здесь же бьют сразу! Снайперы! Конвоиру отпуск на две недели, работяге на вечные времена. Тоже все. Так что же это, приказ? Закон? Пункт сторожевого устава? Или сумасшедший из смирительной рубахи выскочил да и начал рубить направо и налево? Не знаю, да и знать не хочу. Знаю только, что такого быть не может, а оно есть. Значит, бред, белая горячка. Только не человека, а чего-то более сложного! Может быть, всего человечества. Может. Не знаю!