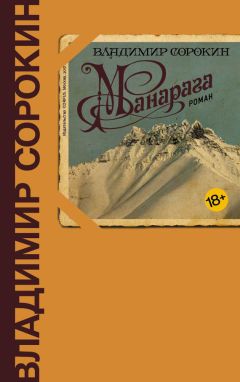Роман - Сорокин Владимир Георгиевич
Вошла Настасья, неся в одной руке глиняную миску солёных грибов, в другой – корзинку со свежеиспечённым ржаным хлебом. Поставив всё это на стол, она с улыбкой покосилась на Романа и вышла.
– За твоё здоровьице, голубчик. – Пётр Игнатьевич поднял стопку.
– За ваше здоровье, Пётр Игнатьевич, – чокнулся с ним Роман.
Они выпили. Пётр Игнатьевич смешно сморщился, тряхнул рукой, затем взял кусочек хлеба, понюхал и отложил в сторону, бормоча:
– Закусывай, закусывай, голубчик…
Роман подцепил вилкой шляпку подосиновика и отправил в рот, отметив про себя, что настояна водка очень недурно.
– Ну да как же ты решился на такое путешествие? – спросил Пётр Игнатьевич, сцепив руки замком и облокачиваясь на стол.
Роман ответил, и между ними завязался долгий оживлённый разговор. Пётр Игнатьевич спрашивал обо всём подряд, но, не дослушав обстоятельных ответов Романа, сразу же сам превращался в не менее обстоятельного рассказчика, повествуя о щуке, которую он убил из ружья позавчера, о намерении немедленно отстроить второй этаж, о том, как полезна русская баня, как хорошо вплетать в банный веник мяту и душицу, о его новой гениальной догадке по поводу миграций чувашей, о крутояровских колодцах и, конечно же, о нынешних тетеревиных токах.
– Вообрази, Рома, – торопливо говорил Пётр Игнатьевич, прижимая руки к груди и наваливаясь на стол всем телом, – я лежу в шалашике и премило чуфыркаю. Да, чуфыркаю. И вдруг – фырр-р: летит. Слышу – сел. Но где – не понимаю. Тишина. Я снова натуральным делом – чуфыр, чуфыр. Тишина. Я высовываюсь из шалашика, а он, подлец, как над моей головой загрохочет! Господи, так он же на шалашике сидел, вот ведь оказия какая!
– А вы что же?
– Я выскочил, вдогонку ему из обоих стволов – бац, бац! Да без толку, где же в таком тумане-то попасть!
– Да, забавный случай.
– Ещё бы! Ещё бы, голубчик мой! Я сроду тридцать пять лет охочусь, а такого, чтобы на шалаш надо мной уселся, – упаси Бог…
– Пётр Игнатьевич, как ваши лошади? – перевёл Роман разговор на другую, совсем уж изъезженную колею, чувствуя, что не в силах больше сидеть и слушать бесконечные истории. Разговор же о лошадях требовал похода на конюшню.
И действительно, минут через десять они уже стояли на деревянном настиле, под которым хлюпала грязь и навозная жижа. Пётр Игнатьевич в наброшенном на спину полушубке оттягивал увесистую задвижку стойла:
– Ну-ка, родимые мои…
Он дёрнул ворота, и они со скрипом подались, открывая тёмное пространство конюшни, где стояли в стойлах, жуя сено и потряхивая гривами, три лошади.
Пётр Игнатьевич отвязал всех трёх и выпустил во двор.
Лошади неторопливо вышли, пофыркивая и постёгивая себя хвостами. Настил прогибался под их копытами, и чавкающие звуки заполнили двор.
– Вот красавцы мои. – Пётр Игнатьевич стоял, сложив руки на животе и не в силах оторваться от лошадей.
Они действительно были красивы – две тонконогие, поджарые кобылы каурой масти и серый в тёмных яблоках рысак.
Роман подошёл к нему, протянул руку, положил на плечо.
Рысак вскинул голову, ноздри его трепетали, он стриг ушами и подрагивал мускулами.
Роман гладил его тёплое, налитое силой плечо:
– Какой красавец… Давно он у вас?
– Второй год. Я его жеребёнком взял.
– Как звать?
– Перун.
Услышав своё имя, жеребец вскинул голову и покосил глазом на Петра Игнатьевича. В такой стойке он был отменно хорош.
Кобылы тем временем, пофыркивая, обнюхивали бревенчатый забор.
– Как их звать? – спросил Роман, подходя к кобылам, которые при его приближении дёрнулись в сторону.
– Лада и Кострома. Хорошие лошадки? – Красновский неотрывно смотрел на них, улыбаясь и моргая. Глаза его слезились от бодрящего весеннего воздуха, гладкая лысая голова сияла на полуденном солнце, как бильярдный шар. Роман хотел было спросить родословную, но со стороны дома послышался какой-то шум, чьё-то бормотанье и резкий, почти визгливый голос Настасьи.
– Что там за чёрт… – недовольно пробормотал Пётр Игнатьевич, поворачиваясь.
Судя по голосам, Настасья бранилась с каким-то мужиком. Она что-то быстро внушала мужику, потом прикрикивала на него; он же возражал ей достаточно настойчиво, хриплым глуховатым голосом. Постепенно вскрики Настасьи участились и закончились настойчивыми призывами в адрес Петра Игнатьевича.
– А-а-а, чтоб вас черти разорвали, – пробормотал он, хлопками ладоней пытаясь загнать лошадей в стойло.
Но лошади не слушались, топтались, жались по углам двора. Весенний воздух притягивал их.
– Ну ладно, проказники, подышите, – проговорил Пётр Игнатьевич. – Пойдём, Ромушка, посмотрим, что там эти древляне творят.
Они вышли с конного, Красновский запер косую дверцу на деревянный клин и своим косолапым, но решительным шагом направился к дому.
Драма разыгралась в открытых воротах скотного двора, который, в отличие от конюшен, прямо примыкал к дому.
Когда Роман с Петром Игнатьевичем вошли на скотный, их взору открылась следующая картина: Настасья выпихивала рогатым ухватом для горшков здоровенного бородатого мужика в распахнутом армяке, надетом на голое тело, в грязных красных штанах и ещё более грязных сапогах. Мужик что-то ожесточённо бубнил, то и дело перехватывая направленный ему в голую волосатую грудь ухват и легко отводя его в сторону своей ручищей, Настасья же голосила непрерывно, трясясь и подступая к нему:
– Иди, иди, отсюда, пролик окаянный, пьяница чёртов, прости господи! Чтоб тебя собаки съели, бес ты водяной! Чтоб ты в подпол провалился! Чтоб у тебя брюхо лопнуло, живоглот проклятый, наказание моё!
– Да погоди ты, дура непонятливая! – пытался вставить слово мужик, но Настасья перебила его, заголосив на добрые пол-октавы выше:
– Пётр Игнатьич! Пётр Игнатьич! Пётр Игнатьич!
– Я Пётр Игнатьич! – сердито проговорил Красновский, стоя позади их. – Что здесь происходит?
Звук его голоса магически подействовал на пререкающихся: они перестали браниться, повернулись к Петру Игнатьевичу и подошли ближе, имея вид довольно-таки покорный, хотя подбородок у Настасьи всё ещё подрагивал, а мужик косил на неё диким взглядом неистовых смоляных глаз, спрятанных под густыми чёрными бровями.
Роман тут же узнал в нём одиозную крутояровскую фигуру Парамона Коробова по прозвищу Дуролом.
Этот похожий на исхудавшего медведя-шатуна мужик давно уже стал ходячей крутояровской притчей во языцех. Ещё мальчиком, приезжая летом в Крутой Яр, Роман слышал передаваемые из уст в уста бесконечные истории о проделках и похождениях Дуролома. Говорили, что он родился где-то в Сибири, чуть ли не в семье ссыльных бунтовщиков. Потом судьба занесла его в здешние места. Двадцати трёх лет он женился на девушке из соседнего села, но, прожив с ним год, она умерла в родах. Ребенок родился слабеньким и умер через несколько месяцев. Парамон запил, постепенно продавая имущество, и кончилось тем, что, продав дом, пристал к цыганскому табору и пропал на девять лет. Вернулся он, по словам старожилов, “каким-то чумовым”: хозяйство заводить не стал, а нанимался на работы к старикам да вдовам, живя у кого придётся. Работу ему поручали самую простую и грязную, в основном используя его непомерную физическую силу. Он копал колодцы и погреба, таскал мешки с зерном, чистил выгребные ямы и пас свиней.
Но прославился Парамон не выкопанными погребами, а своими дикими и нелепыми проделками.
Так, вывернув тулуп наизнанку и вымазав лицо сажей, любил он зимним субботним вечером попугать выходящих из бани баб или во время службы в церкви так выкрикнуть “Господи, помилуй”, чтоб местный священник отец Агафон испуганно присел, уронив кадило. Он катался с ледяных гор в липовой шайке без дна, бил ворон из какого-то невероятного турецкого пистолета, заряжая его горохом, лазал весной по деревьям, воруя и поедая птичьи яйца, ездил на ярмарку, “дабы попотешить жилку”, то есть подраться в кулачных боях, и возвращался весь избитый и изорванный, с ворохом невероятных историй. Любил он затевать споры, биться об заклад по любому поводу или быть свидетелем на тяжбе; любил подговаривать мужиков на различные рискованные предприятия, как то: гнать телеги наперегонки по полю, ловить ночью раков на поросячий визг (поросенка полагалось держать по шею в воде), меняться чем попадя – сапогами, жилетками, шапками; копать несуществующие клады и, конечно же, – пьянствовать.