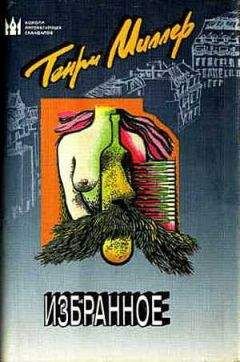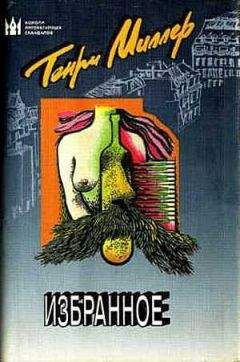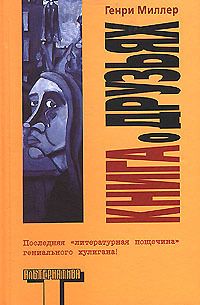Генри Миллер - Плексус
– Посмотрим.
– Генри, ты пытаешься писать с тех пор, как я знаю тебя. У других писателей в твоем возрасте за плечами по крайней мере с полдюжины книг. Ты даже не закончил первой – или все же закончил? Так что не мешает тебе самому призадуматься.
– Может, я до сорока пяти не начну, – сказал я шутливо.
– Подожди до шестидесяти, Генри. Кстати, как зовут того английского писателя, который начал в семьдесят?
– Тоже не могу сейчас вспомнить.
Появилась Трикс с кофе и тортом. Мы вернулись за стол.
– Итак, Ген, – завел он снова, кладя себе огромный кусок торта, – все, что я хочу сказать: не сдавайся! Ты еще можешь стать писателем. Станешь ли ты великим писателем, этого я не могу тебе предсказать. Тебе еще многому надо учиться.
– Не обращай на него внимания, – посоветовала Трикс.
– Его ничем не прошибешь, – усмехнулся Макгрегор. – Он еще упрямей, чем я, и это говорит о многом. Правда в том, что мне больно смотреть, как он упускает время.
– Упускает время? – эхом отозвалась Трикс. – А как насчет тебя?
– Меня? Я ленив. А это другое дело. – Он широко улыбнулся ей.
– Если думаешь жениться на мне, – возразила она, – придется тебе самому зарабатывать на жизнь. Уж не думаешь ли ты, что я собираюсь содержать тебя?
– Ты только послушай ее, Ген, – покатился со смеху Макгрегор, словно Трикс сказала что-то ужасно смешное. – Разве кто-нибудь говорил, что хочет, чтобы его содержали?
– А на что мы будем жить? Уж наверняка не на твой заработок.
– Фу ты! – скривился Макгрегор. – Дорогая, я еще не начинал работать. Подожди хотя бы, пока я не получу согласие на развод, тогда займусь этим вплотную.
– Не уверена, что мне хочется за тебя замуж, – сказала Трикс. Сказала очень серьезно.
– Нет, ты слышал? – поглядел на меня Макгрегор. – Как тебе это нравится? Ну, дорогая, ты много теряешь. Через десять лет я, возможно, буду заседать в Верховном суде.
– А пока это не произойдет?
– Мой девиз: не создавай себе трудностей заранее.
– Он всегда может заработать, стенографируя судебные заседания, – сказал я.
– И при этом прилично заработать, – добавил Макгрегор.
– Не хочу, чтобы у меня муж был судебным стенографистом.
– Ты выходишь за меня, – сказал Макгрегор. – Кому известно, кем я работаю, кто я?
– В настоящий момент ты обыкновенный неудачник, – ответила на это Трикс.
– Правильно, дорогая, – беспечно сказал Макгрегор, – но многие были неудачниками, пока не вскарабкались на верхушку лестницы.
– Но ты не из тех, кто карабкается!
– Снова-здорово, – вздохнул Макгрегор. – Это просто такое выражение. Послушайте вы оба, вы же на самом деле не считаете меня неудачником? Просто сейчас я работаю на холостом ходу. Мне нужен стимул. Нужна добрая жена, дом и один-два настоящих друга. Вот как мы трое, например. Как, по-твоему, Генри, разумные вещи я говорю?.. Понимаешь, Трикс, – не дожидаясь ответа, продолжал он, – парней вроде Генри и меня нельзя мерить общей меркой. Мы – люди высшего сорта. Если возьмешь меня в мужья, тебе достанется сокровище. Я самый терпимый человек на свете. Генри подтвердит. Могу работать не хуже других… если надо! Только я не вижу смысла в том, чтобы гробить себя. Это глупо. Так вот, я ничего не говорил вам об этом, но у меня в запасе есть несколько блестящих планов. Больше того, я уже начинаю осуществлять их. Мне не хотелось об этом говорить, пока не будет результата. Если удастся провернуть хотя бы один из них, можно будет десять лет ни о чем не беспокоиться. Ну как, не ожидала?
– Ты прелесть, – сказала Трикс, неожиданно смягчаясь.
Не думаю, чтобы она хоть на секунду поверила в его планы, но она была рада ухватиться за любую соломинку.
– Ну вот! – просиял Макгрегор. – Видите, как все просто?
По дороге домой, спустя примерно час, я думал о всех его диких планах, которые он вынашивал с тех самых пор, как я знаю его, со времени, когда он еще ходил в подготовительную школу. Как он всегда усложнял себе жизнь, пытаясь облегчить ее. Я вспоминал, как он часами гнул спину, чтобы «потом» можно было делать что хочется, хотя никогда он не знал точно, что будет делать, когда можно будет делать только то, что хочется. О том, чтобы не делать ничего, что он всегда лицемерно почитал за summum bonum[101], речи вообще не было. Если он шел отдохнуть на пляж, непременно прихватывал с собой тетрадь и парочку книг по юриспруденции или даже несколько страничек из полного словаря, который читал – по страничке зараз – годами. Если мы лезли в воду, он заставлял кого-нибудь плыть с ним наперегонки до плотика, или предлагал всем плыть до того или иного места, или играть в ватерполо. Все, что угодно, только не лежать спокойненько на спине. Если мы вытягивались на песочке, он предлагал сыграть в кости или в карты. Если начинали болтать о разных приятных пустяках, он непременно затевал спор. Ничего он не мог делать спокойно и в свое удовольствие. Одно не кончит, а уже думает о другом.
Я вспомнил и его удивительную способность постоянно простужаться – «застужать грудь», как он выражался. Не важно, какое было время года: зима или лето. Летом он, по его словам, простужался даже сильней. Кроме простуды, он часто страдал сенной лихорадкой. Короче говоря, обычно он был в плачевном состоянии: недомогал, грипповал, чихал и при этом во всем винил сигареты, клялся бросить курить на следующей неделе или в следующем месяце и иногда, к моему великому изумлению, исполнял обещание, но лишь затем, чтобы опять начать смолить еще отчаянней. Иногда ему казалось, что «болтаться без дела» его заставляет пристрастие к выпивке, и он на какое-то время бросал пить, может на шесть или восемь месяцев, но потом начинал пить хлеще прежнего. И все он делал таким манером: бросал, чтобы потом начать все сызнова. Если садился за учебники, то занимался по восемнадцать-двадцать часов в сутки, чуть ли не доводя себя до гиперемии мозга. Он мог прервать занятия ради игры в карты с приятелями, что он считал передышкой. Но и в карты играл так же, как занимался, курил или пил, – не зная меры. Хуже того, он расстраивался, когда проигрывал. Что касается женщин, то если уж он начинал бегать за девчонкой, то не отставал от нее – не важно, сколько раз она отказывала ему, – пока не доводил ее чуть не до безумия. Как только она смягчалась или уступала, он бросал ее. Потом на какое-то время никаких женщин. Абсолютно никаких. Без женщин жить лучше – и здоровее, и в голове ясность, и аппетит тогда лучше, и сон, и самочувствие; полезней в сортир сходить, чем к бабе. И так далее, до бесконечности. Пока не встретит другую девчонку, ну просто такую, такую, что и словами не выразить. И снова долгая охота, днем и ночью, неделя за неделей, пока не завалит, и тогда она оказывается в точности как остальные, ничуть не лучше, ничуть не хуже. «Просто дырка, Ген… просто дырка!»
На столе у него вечно громоздилось двадцать, а то и больше толстенных томов: он прочитает их, как только выдастся свободное время. Часто бывало, что проходили годы, прежде чем он открывал хоть один из них, и, конечно, к тому времени книга теряла для него всякий интерес. Он пытался сбыть книги мне за полцены; если я отказывался, он скрепя сердце дарил их мне, говоря при этом: «Но ты должен обещать, что прочтешь это!» Он хранил номера журналов десяти-пятнадцатилетней давности. Изредка брал с собой несколько штук, раскрывал в троллейбусе или в поезде, быстро пролистывал и швырял в окно, приговаривая: «Туда им и дорога!» – и раскаянно улыбался.
При встрече он то и дело предлагал: «Почему бы не сходить в театр? Я слышал, в „Орфеуме“ идет хорошая пьеса». Приходилось спустя полчаса идти в театр и, просидев там пять минут, сбегать, словно сама атмосфера театра была ядовитой. «Плакали наши пять баксов, – говорил он. – Сколько у тебя при себе, Ген? О черт, не шарь по карманам, я знаю и так. Когда это бывало, чтобы у тебя водились деньги?» Потом он тащил меня в бар в каком-нибудь зловещем проулке, в бар, где он знал хозяина, или официанта, или еще кого-нибудь, и пытался стрельнуть несколько долларов; если денег раздобыть не удавалось, он заставлял своих знакомых угощать нас выпивкой. «Есть у тебя хоть пять центов? – раздраженно спрашивал он. – Хочу позвонить этому подонку Вудраффу, он должен мне несколько баксов. Плевать, если он спит. Возьмем такси, а платить заставим его, что скажешь?» Он набирал номер за номером. Наконец вспоминал о девчонке, которую бросил несколько лет назад, о какой-нибудь добродушной недотепе, как он выражался, которая только рада будет увидеть его снова. «Сейчас выпьем и смоемся по-тихому, чтобы не платить. Может, удастся перехватить у нее взаймы. Только ни-ни: она вечно ходит с триппером». Так проходила ночь, в бесполезной беготне никуда, не принося ничего, кроме усталости и отвращения. В конце концов мы оказывались в Гринпойнте, в доме его родителей, в холодильнике у которых всегда стояло несколько бутылок пива. Доставать пиво приходилось тайком, чтобы никто не услышал, потому что он вечно был на ножах со своим стариком или матерью, а иногда с обоими вместе. «Они не слишком любят тебя, Генри, не побоюсь сказать. Не знаю почему, но их не переубедишь. Думаю, дело в той истории со вдовой, это было для них слишком. Не говоря уже о триппере, которым ты постоянно хвастал».