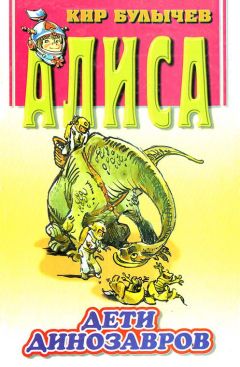Андрей Темников - Зверинец верхнего мира
Трудно сказать, с каких времен повелось пугаться смерти: если нитка вдруг кончится или оборвется. Страх заставлял какое-то время сучить пальцами воздух. И еще вот что – редкость. Так ли уж это важно было – прямо связать то, что одна за другой стали уходить такие терпеливые и трудолюбивые женщины, как она, и то, что однажды в проеме раскрытой двери ее дома появилась та отвратительная бретонка. Хотела войти – не вошла, помешала скамья. Бретонок не любили. Им подавали и хлеб, и молоко. Денег или рыбы не давали никогда, а этого-то они и просят. Та была с самого побережья, в грязном переднике и белом платке, повязанном как у девушки, сумасшедшая.
Старуха и старуха – они посмотрели друг на друга, и хозяйка дома испугалась: ожидания не было в глазах зашедшей. Вот ведь как бывает! А теперь она осталась одна: и всего один глаз. Такой работы больше никто не делает. Случайно зашедших к ней детей спешат увести за руку. Кланяются, извиняются «за то, что побеспокоили бабушку», крепко держат ребенка, чтобы он вдруг не вырвался. Интересно, что случись несчастье, у нее тоже просят извинений. Ребенка уносят на руках, забывая затворить дверь. Надеясь, что он еще очнется, его кладут прямо у порога. Прохожие сочувствуют матери, спрашивая, не поздно ли еще будет помочь, послать за кем-нибудь, кто высосет яд из ранки. Другие разглядывают капельку крови, проступившую на пальце, качают головой. Эти знают, что никакого яда нет, но и ребенку уже не помочь. Нам бы кто помог! Но ничто не заставит мать или кого из любопытных донести о случившемся в замок. Сам барон; и баронесса; и нередко их дочь, подрастающая год от года – то пухленькая, то хрупкая, то бледная, то румяная, то с оттиском смятой подушки во всю потную щеку, – приходят постоять на пороге дома этой отважной женщины. У барона вот какое ружье: граненый ствол покрыт зеленью, и если выпалить из него, разойдется в фиал о шести лепестках, в глубину которого слетятся жаворонки, чтобы их пение не было таким звонким; баронесса дребезжит пустой кофейной чашкой (ее любимой) о блюдце совсем из другого сервиза; в другой руке молочник, наполненный чем-то густым; когда девочка подросла, то и ее рукам оказали доверие, она стала приносить большой сферический аквариум. Пустой.
Барон; баронесса; их дочь. Только эти трое восхищались ее работой. Барон запретил производство пряжи в своих владениях и велел объявить об этом. Но странно: и он просто глаз не мог оторвать от веретена. Баронессу в большей степени интересовало само веретено и в меньшей степени запрет. Вот форма и вращение. И нетрудно догадаться, что их дочь не видела ничего, кроме острия. Время от времени со стороны троих доносились разные звуки. Я просто не знаю, что мне делать с этими ударами приклада о порог, пляской и плеском воды в стеклянной сфере. Рыбок не было. Кроме того, баронесса нет-нет да и наклоняла свой молочник слишком через край. Что-то густое и сладкое выходило из него отвесом. Вообще с их появлением мухи в старушечьем доме заметно оживали. А что делать с книгой, которую баронесса читала девочке на ночь? Какой шарлатан составил это переложение «Одиссеи» для детей? Приведу отрывок:
«Думал, это нетрудно? Не трудней, чем измять руками круг желтого воску? Глухой будет править, а глухие встанут со скамей только затем, чтобы покрепче затянуть ремни. А ты услышишь то, что полагается слышать одним погибающим? Вот ребра их кораблей».
Говорила только одна из трех сестер, две другие – не то чтобы петь…
«И Улисс плакал и рвался, а гребцы, сделав несколько взмахов веслами, вставали со скамей и делали, как он заранее попросил. Три сестры, вцепившись лапками в камни гибельных утесов, глядели на мокрый от ужаса затылок рулевого. Тихое море».
За открытия платят гибелью. «По-другому и не бывает», – говорила баронесса над головой заснувшей дочки.
Отвесно, как на декорации, множеством ярусов, к самому замку поднимается лес. Голая только макушка холма, к стенам замка лес не подпускают. И вот однажды старуха (вот это глаз!) увидала на голой части холма белый платок; он, этот платок, двигался к воротам замка. Но вот вышла ли оттуда та отвратительная бретонка? Этого никто не скажет. Какое-то время из распахнутых окон выплывали большие крапивницы и корольки. Выходили на слипшихся крыльях. Вот так, как они застывают на цветах, когда им уже не с кем играть. И плыли – в лес. Их видали в деревне; спящие на ходу спящих на ходу, снящиеся снящихся. Снящиеся снящимся… Те, кого не лишили голоса, обвиняли друг друга в избыточной чувствительности. В самом деле: такое кругом, а нам почему-то снятся еще и бабочки со слипшимися крыльями. Дровосеки уходили в лес, и оттуда слышались рыдания. При особенно звучных спазмах где-то падало сухое дерево, как будто топор тут ни при чем, и это слезы подмывают им подножья. Дрова везли в замок, но зима так и не наступала. Вскоре повсюду перестали разводить огонь, плакать, и с бабочками как-то все само собой устроилось. Теперь одни мухи жужжали над липкими лужицами, оставшимися после ухода баронессы. Длительность не озадачивала. Если молоко такое, чего ждать от ветра, воды, снежных туч?
«Наверное, это не так, но я все же чувствую себя так, будто нас поместили под стекло», – сказала баронесса над головой заснувшей дочки. Еще стоя, еще не опускаясь на пол, как она всегда делала: никаких сил дойти до кровати. Барон и сам пообвык устраиваться на полу. В тот вечер он сказал жене: «Вы ошибаетесь: мы внутри стекла. Или льда. Вот почему все так медленно делается». Незачем ему было говорить эту гадость. Разъяренной фурией влетела бретонка, растолкала его, заставила сделать пятьдесят приседаний, подтолкнула к окну, подхватила под мышку – и больше о них не рассказывается. На этот раз даже баронесса побоялась устанавливать прямую связь между гибелью и открытием. Она не плакала, чтобы дочка не задавала вопросов.
Утром она попросила свежей воды для своего аквариума, но там оказалось тяжелое и густое содержимое молочника ее матери. Больше доверия ее рукам или что еще? Ружье – громоздкая вещь, и она всегда боялась от него неожиданностей. Впрочем, эта нежная девочка с таким же страхом глядела на садовую лейку и на жестяной желоб водостока. Поздним и свежим утром, полным душистых напоминаний о ночной грозе, в кадушке под водостоком нашли затонувшую белку. А в другой день, когда ни о чем не знавшая челядь пошла искать барона, в той же кадушке уже протухшей воды плавал ботинок садовника. Желтый, с двумя черными пуговицами. Пропал садовник: девочке велели не сообщать, что он ушел в деревню. В одном ботинке или босой – неизвестно, слыхали только, как он по пути высвистывал: «Au clair de lа lune…» и еще «En passant par le Lorrain…»
В замок больше не возили дров: куда их? Дрова стали складывать прямо в лесу. В некоторых местах от этого он сделался непроходимым, хотя там-то и просматривался насквозь. Просветы эти зачаровывали. Как будто ничего особенного в них и не было. Животные продолжали прятаться в непроглядной чаще, а на ясном месте даже и мелькать перестали. А все же ветер сносил в эти просветы пороховой дымок, перо охотничьей шляпы или свеженький анекдот про дохлого медведя. В деревне хохотали и просили чего-нибудь еще.
А вот бароново ружье долго не могли пристроить, ведь у женщин руки всегда чем-то заняты, а под локотком баронессы оно не держится. Наняли слугу. Малый, кажется, родился и вырос во время запрета на веретена. Он уже проявил полную неприспособленность ни к какому другому делу. При виде веретена он отставил ружье в угол (тут я снова не знаю, как быть со стуком окованного приклада: никакого стука что-то не вышло!) – и направился прямо к старухе. Девушка словно бы очнулась. Ее действия еще нельзя было полностью освободить от сновидений, поэтому она заметалась между малым, тянувшим руку к старухиному веретену, и отцовским ружьем, которое, казалось, поехало и грозило грохнуться и грохнуть. Вовремя не поспела, слугу вынесли на порог, другие собирали осколки сферы с мокрого пола. Баронесса поливала из молочника башмаки усопшего с таким видом, будто это и было верное средство вернуть его к жизни. Она поняла: случилось ужасное – догадкам, старухам, простому любопытству теперь будет положен конец. «До свадьбы, пожалуй, мне придется держать ее взаперти». Но, только вернувшись в замок, баронесса поняла, насколько сегодняшнее происшествие осложнило ее намерения: исчезли все слуги! Еще в лесу кто-то из них будто бы попадался ей навстречу. Трещали ветки, на дорогу выскакивали перепуганные мыши; баронесса думала: пускай. Но так, чтобы все!
Старуха ничего не знала. Свадебный поезд бесшумно въехал в деревню. Гости сыпали остротами, слова не вылетали из колясок, другие палили в воздух, попеременно исчезая в пороховом дыму: ни звука. Вот жених и невеста взошли на порог. Девушка двинулась к веретену. Ни с чем не сравнимое искушение шаг за шагом подталкивало ее к сидящей старухе. Каким же смешным и мелочным казалось ей все, что было до того: аквариум и мамин молочник, который баронесса наполняла, всегда уединясь в особую комнату рядом с ванной, белка, крапивницы, папин внезапный отъезд, великолепный сад жениха (план вычерчен на пергаменте и раскрашен акварелью) и обещания, данные в церкви (даром, что их не слышал и сам священник, однако он не прервал обряда, значит и безмолвные ее обещания чего-то стоят!). Все в куски! Настоящей является одна вот эта одноглазая, одно острие ее веретена.