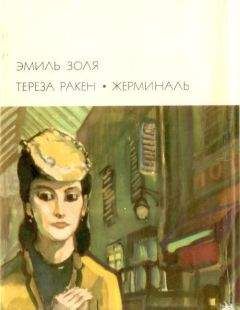Эмиль Золя - Собрание сочинений. Т. 10. Жерминаль
— Сволочь! Свинья! Гадина! Погоди, ты за моих бедных ребят поплатишься, я тебя ухлопаю.
Подобрав с земли кирпич, он разбил его и швырнул в Этьена обе половинки.
— Валяй! Валяй! Прикончим его! — закричал Шаваль и засмеялся, возбужденный, обрадованный этой мыслью. — Каждому свой черед… Приперли тебя к стенке, паршивец?
И Шаваль тоже принялся кидать в Этьена камнями, Поднялся дикий рев, все стали хватать кирпичи, разбивали их и бросали в Этьена, норовя проломить ему голову, так же как стремились они недавно перебить солдат.
Этьен был ошеломлен и растерянно стоял перед ними, даже и не думая бежать, и все пытался успокоить их словами. Вспомнились ему прежние его речи, вызывавшие когда-то горячее восхищение. Он повторял фразы, которыми опьянял толпу слушателей в те дни, когда держал их в своих руках, словно покорное стадо; но власть его умерла, на его речи отвечали градом камней; ему сильно ушибли левую руку у плеча, он попятился и оказался в большой опасности, когда его притиснули к фасаду пивной.
Раснер уже несколько минут стоял у дверей.
— Войди! — коротко сказал он.
Этьен колебался: тяжело было укрываться у Раснера.
— Да входи же! Я поговорю с ними.
Смирившись, Этьен вошел и спрятался в углу, а кабатчик все стоял у двери, загораживая ее своей широкой тушей.
— Ну довольно, друзья! Опомнитесь!.. Вы хорошо знаете, что я-то вас никогда не обманывал. Я всегда призывал к спокойствию, и если бы вы меня послушали, вы бы, конечно, не дошли до такого положения, в каком теперь очутились.
Покачивая плечами и выпятив толстое брюхо, он говорил долго; фразы текли одна за другой, легко, свободно и успокаивали, словно душ из теплой воды. Возвратился прежний его успех, он вновь завоевал популярность и притом без всяких усилий, как будто товарищи и не освистывали его месяц тому назад, не называли его подлым трусом. Теперь он вновь слышал одобрительные возгласы: «Правильно! Верно!» Все были на его стороне. «Вот как надо говорить!» Когда он кончил, раздался гром рукоплесканий.
А позади него замирал в тоске Этьен, горечь переполняла его сердце. Ему вспомнилось предсказание Раснера на сходке в лесу, — ведь он тогда грозил, что и Этьена ждет неблагодарность толпы. Ах, сколько в ней глупости и жестокости! Как подло она забывает обо всем, что сделано для нее! Это какая-то слепая стихия, которая постоянно сама себя пожирает… Как не возмущаться, что эти скоты вредят собственным своим интересам! Но за гневом в душе Этьена таилось отчаяние, вызванное крушением его надежд, трагическим концом его честолюбивых планов. Да что же это? Неужели все кончено? Вспомнилось, что в лесу, под буками, он чувствовал, как у трех тысяч человек сердце бьется в унисон с его сердцем. В тот день он обладал великой популярностью; весь этот народ принадлежал ему, Этьен был его властителем и хорошо понимал это. Безумные мечты опьяняли его тогда: Монсу у его ног, а там, вдали, Париж; может быть, он станет депутатом и произнесет сокрушительную речь против буржуа; это будет первая речь, произнесенная рабочим с парламентской трибуны. А теперь всему конец! Он очнулся от своих грез, жалкий и презренный, — народ изгнал его, забросал камнями. Послышался громкий голос Раснера:
— Никогда насилие не приводило к добру. В один день мир не переделаешь. И кто обещает вам переменить все сразу, тот либо болтун, либо мошенник.
— Верно! Верно! — кричала толпа.
Кто же виноват? Этот вопрос, которым задался Этьен, окончательно придавил его. Неужели правда, что он виноват в бедствиях, от которых жестоко страдает и сам, — неужели по его вине люди живут сейчас в невероятной нищете, а иные расстреляны? Неужели по его вине у этих изможденных, исхудавших женщин и детей нет хлеба? Однажды вечером, перед катастрофой, эта страшная мысль возникла у него. Но тогда стихийная сила подняла его на своей волне, захватила и повлекла вместе с товарищами. Никогда, кстати сказать, он не руководил ими, — они сами вели его, заставляли делать то, что он не решился бы сделать, если бы его не подталкивал людской поток, устремившийся по дорогам позади него. Каждый акт насилия бывал для Этьена ошеломляющей неожиданностью — ведь он и не предвидел и не хотел никаких насилий. А мог ли он предполагать, что его верные почитатели когда-нибудь побьют его камнями? Бешеные! Они обвиняли его в том, что он сулил им сытую жизнь и безделье. И в этом стремлении оправдать себя, в рассуждениях, которыми он старался рассеять укоры совести, скрывалось глухое беспокойство, что он не оказался на высоте своей задачи, сомнения недоучки, всегда мучившие его. Он чувствовал, что мужества его иссякло, сердцем он не был с товарищами, — он боялся их, боялся народа, этой огромной массы, этой слепой, непреодолимой силы, подобной силе природы, сметающей все, не признающей никаких правил и теорий. Мало-помалу она становилась для него чужой: его отдаляла от него брезгливость, изощрившиеся вкусы, постепенно развившееся стремление всего его существа подняться выше — к другому классу.
И в эту минуту голос Раснера заглушили восторженные вопли:
— Да здравствует Раснер! Молодец Раснер! Только ему и можно верить!
Кабатчик закрыл дверь; толпа рассеялась. Бывшие соперники молча переглянулись и оба пожали плечами. В конце концов они выпили по кружке пива.
В этот самый день в Пиолене устроили званый обед в честь помолвки Негреля и Сесиль. Грегуары еще накануне приказали натереть пол в столовой, выколотить пыль из мягкой мебели в гостиной. Мелани, царившая в кухне, надзирала за жарким, готовила соусы, запах которых поднимался до чердака. Решено было определить кучера Френсиса в помощь Онорине, — пусть подает на стол; Жене садовника назначили мыть посуду, а самому садовнику — отворять ворота. Еще никогда в этом большом и богатом патриархальном доме не было такого парадного пиршества.
Все прошло превосходно. Г-жа Энбо была очаровательна и ласково улыбнулась Негрелю, когда нотариус из Монсу галантно предложил выпить за счастье будущих супругов. Г-н Энбо был тоже очень любезен. Его веселый вид поражал гостей; ходили слухи, что он опять вошел в милость у правления и за энергичное подавление забастовки скоро будет представлен к командорскому кресту ордена Почетного легиона. Все избегали говорить о последних событиях, но во всеобщей радости чувствовалось торжество: обед превращался в официальное празднование победы. Наконец-то пришло избавление, можно спокойно есть, спать! Был брошен скромный намек на погибших, чья кровь еще так недавно обагрила грязь у Воренской шахты, — кто-то сказал, что это был печальный, но необходимый урок, и все умилились, когда Грегуары добавили, что теперь каждый обязан помочь рабочим поселкам залечить раны. Супруги Грегуары обрели прежнее свое благодушие, прощали бедных своих рабочих и твердо надеялись, что углекопы будут усердно трудиться в глубине шахт, подавая пример вековой покорности. Важные персоны городка Монсу, теперь не дрожавшие от страха, соблаговолили признать, что вопрос о наемном труде требует весьма осторожного подхода и изучения. За жарким выяснялось, что победа одержана полная: г-н Энбо прочел письмо епископа, сообщавшее о переводе аббата Ранвье в другой приход. Вся местная буржуазия с негодованием осуждала поведение этого священника, называвшего солдат убийцами. И когда подали десерт, нотариус решительно выказал себя вольнодумцем.
На обеде присутствовали Денелен с дочерьми. Среди всеобщего веселья он старался скрыть свое уныние, — ведь он был разорен. Как раз в тот день утром он подписал акт о продаже Вандамских копей Компании Монсу. Его приперли к стене, схватили за горло, и ему пришлось подчиниться всем требованиям приехавших членов правления, — наконец-то они завладели добычей, которую так долго подстерегали. Денелен с трудом выторговал у них сумму, необходимую ему для расплаты с кредиторами. В последнюю минуту он даже принял как неожиданную удачу предложение Компании оставить его на копях в должности инженера, — он смиренно согласился надзирать в качестве наемного служащего за той самой шахтой, которая поглотила все его состояние. Уже раздавался похоронный звон, возвещавший гибель малых единоличных предприятий; вскоре должны были один за другим исчезнуть с арены боя мелкие хозяева, проглоченные ненасытным чудовищем — капитализмом; их захлестывала поднимавшаяся волна крупных акционерных обществ.
Денелену, и только ему одному, пришлось оплачивать убытки, причиненные забастовкой; он хорошо чувствовал, что, поднимая бокалы в честь орденской розетки г-на Энбо, сотрапезники пьют за разорение владельца Вандамских копей, немного утешала его только редкостная стойкость дочерей: Люси и Жанна, такие очаровательные в прошлогодних переделанных платьях смеясь встречали случившуюся беду, так как обладали мальчишеским задором и презирали деньги.