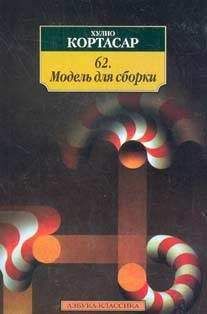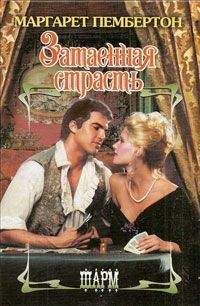Хулио Кортасар - Игра в классики
(—144)
102
Вонг, муравей по натуре, раскопал наконец в библиотеке Морелли экземпляр «Die Vervirrungen des Zoglings Torless» Музиля с дарственной надписью, в котором одно место было жирно подчеркнуто:
— Что это за вещи, которые кажутся мне странными? Самые обычные. Прежде всего — неодушевленные предметы. Что мне кажется в них странным? Нечто, чего я не знаю. Именно это! Откуда, черт подери, я черпаю знание этого «нечто»? Я чувствую, что оно там, оно существует. И вызывает у меня ощущение, будто оно хочет высказаться. Я злюсь, как человек, который силится читать по сведенным губам паралитика и не может. Такое впечатление, будто у меня есть плюс еще одно к обычным пяти чувство, но только оно совершенно не развито, оно есть, но не действует. Для меня мир полон безмолвных голосов. Означает это, что я — ясновидящий или что у меня галлюцинации?
Рональд нашел цитату из «Письма лорда Чандоса» Гофмансталя:
Точно так же, как один раз я увидел через лупу увеличенной кожу своего мизинца, похожую на равнину, изборожденную полями и ложбинами, так же увидел я и людей с их поступками. Я больше не могу глядеть на них просто и привычно. Все разлагается на отдельные составные части, которые, в свою очередь, тоже разлагаю гся на части; и ничто больше не удается заключить в определенное понятие.
(—45)
103
Пола не догадалась бы, зачем он среди ночи вдруг задерживал дыхание рядом с нею, спящей, вслушиваясь в звуки и шорохи ее тела. Лежа на спине, до краев переполненная, она дышала тяжело и лишь иногда в непрочном сне двигала руками или, чуть оттопырив нижнюю губу, отдувалась, и струйка дыхания била ей в нос. Орасио застывал недвижно, чуть приподняв голову и опершись ею о кулак, сигарета повисла в углу рта. К трем часам утра улица Дофин замолкала, вдох, выдох, вдох, выдох, точно слабые приливы и отливы, но вдруг крошечный водоворот, какое-то шевеление внутри, точно движение второй жизни, и тогда Оливейра медленно приподнимался и прикладывал ухо к голой коже, прижимался к крутому, тугому, теплому животу и слушал. Шумы, падения, спады, касания, шорохи, точно раки и слизняки, ползают, цепляясь и задевая друг друга, темный, приглушенный мир скользит по плющу, то тут, то там взрываясь маленькими вспышками и снова приглушая их (Пола вздыхала, чуть шевелилась). Мироздание жидкое, текучее, вызревающее в ночи, плазмы поднимаются и опускаются, непроницаемо-закрытая, медленная машина нехотя движется, и вдруг — скрип, стремительный бег почти под самой кожей, пробежит и забулькает где-то у препятствия или фильтра: чрево Полы, черное небо с крупными, редкими звездами, с летучими кометами и вращением бесчисленных вопящих планет, море со своим шепчущим планктоном, шелестящими медузами, Пола-микрокосмос, Пола — итог вселенской ночи в своей маленькой ночи, забродившей и вызревающей, где кефир и белое вино мешаются с мясом и зеленым салатом, химический центр, бесконечно богатый, таинственный, далекий и такой тебе близкий.
(—108)
104
Жизнь — как комментарий к чему-то другому, до чего мы не добираемся: оно совсем рядом, только сделать прыжок, но мы не прыгаем.
Жизнь — балет на историческую тему, а история — о прожитом факте, а факт прожит над реальным событием.
Жизнь — фотография ноумена, обладание в потемках (женщиной, чудовищем?), жизнь — сводня смерти, блистательная колода, карты таро, значение которых забыто и которые чьи-то узловатые подагрические руки раскидывают в грустном одиночестве.
(—10)
105
Я думаю о забытых движениях, о многочисленных жестах и словах наших дедов, постепенно утрачиваемых, которые мы не наследуем, и они, один за другим, опадают с дерева времени. Сегодня вечером я нашел на столе свечу, играючи зажег ее и вышел в коридор. Движением воздуха ее чуть было не задуло, и я увидел, как моя левая рука сама поднялась и ладонь согнулась, живой ширмочкой прикрывая пламя от ветра. Огонек снова сторожко выпрямился, а я подумал, что этот жест когда-то был у всех нас (я так и подумал у нас, я правильно подумал или правильно почувствовал), он был нашим жестом тысячи лет, на протяжении всей Эпохи Огня, пока ему на смену не пришло электричество. Я представил себе и другие жесты: как женщины приподнимали край юбки или как мужчины хватались за эфес шпаги. Словно утраченные слова детства, которые старики в последний раз слышат, умирая. Теперь у меня в доме не слышно слов: «камфарный комод», «треножник». Это ушло, как уходит музыка того или иного времени, как ушли вальсы двадцатых годов или польки, приводившие в умиление наших бабушек и дедов.
Я думаю о вещах: о шкатулках, о предметах домашней утвари, что объявляются иногда в сараях, на кухнях, в потайных уголках и назначения которых уже никто не способен объяснить. Какое тщеславие полагать, будто мы понимаем, что делает время: оно хоронит своих мертвых и стережет ключи. И только в снах, только в поэзии и игре случается такое: зажжешь свечу, пройдешь с ней по коридору — и вдруг заглянешь в то, чем мы были раньше, до того как стали тем, чем, неизвестно еще, стали ли.
(—96)
106
Джонни Темпл:
Between midnight and dawn, baby, we may ever have to part,
But there’s one thing about it, baby, please remember
I’ve always been your heart [304].
«The Yas Yas Girl»:
Well it’s blues in my house, from the roof to the ground,
And it’s blues everywhere since my good man left town.
Blues in my mailbox ‘cause I can’t get no mail,
Says blues in my bread-box ‘cause my bread got stale.
Blues in my meal-barrel and there’s blues upon my shelf
And there’s blues in my bed, ‘cause I’m sleepin’by myself [305].
(—13)
107
Морелли написал в больнице:
«Самое лучшее в моих предках то, что они уже умерли; скромно, но с достоинством я ожидаю момента, когда унаследую это их качество. У меня есть друзья, которые не преминут изобразить меня в скульптуре: я буду лежать на земле, ничком, и вглядываться в лужу с настоящими лягушатами. А если бросить в щель монетку, то можно будет увидеть, как я плюю в воду и лягушата беспокойно двигаются и квакают целых полторы минуты — время вполне достаточное, чтоб к статуе пропал всякий интерес».
(—113)
108
— La cloche, le clochard, la clocharde, clocharder. Знаешь, в Сорбонне была даже диссертация о психологии клошаров.
— Очень может быть, — сказал Оливейра. — И все-таки у них нет Хуана Филлоя, который написал бы им «Толпу». Интересно, что стало с Филлоем?
Разумеется, Мага знать этого не могла, хотя бы потому, что понятия не имела о существовании такового. И надо было объяснять ей, что за Филлой и что за «Толпа». Маге ужасно понравилось содержание книги — мысль о том, что креольские linyeras одной ветви с клошарами. Она была твердо убеждена, что оскорбительно путать linyeras с нищим, и доводы, на которых основывалась ее симпатия к бродяжке с моста Дез-ар, теперь ей казались научными. Но главное, в те дни, когда они, гуляя по набережной, обнаружили, что бродяжка влюблена, родилась приязнь и желание, чтобы все кончилось хорошо, и это стало для Маги чем-то вроде арок моста, которые всегда ее волновали, или же тех кусочков латуни и проволоки, которые Оливейра находил на улице во время удачных прогулок.
— Филлой, черт возьми, — говорил Оливейра, глядя на башни Консьержери и думая о Картуше. — Как далеко моя родина, просто не верится, что в этом мире безумцев нашлось столько соленой воды.
— Зато воздуха меньше, — говорила Мага. — По воздуху — тридцать два часа лета, только и всего.
— Ну да. А как насчет звонкой монеты?
— И желания тащиться туда. У меня лично — никакого.
— И у меня. Однако же, что поделаешь, бывает.
— Ты никогда не говорил о том, чтобы вернуться, — сказала Мага.
— Об этом не говорят, грозовой ты мой перевал [306], об этом не говорят. Просто чувствуют; для тех, у кого в кармане пусто, здесь сплошное похмелье.
— «Париж — задаром», — процитировала Мага. — Ты сам сказал это в день, когда мы познакомились. Смотреть на бродяжку — бесплатно, заниматься любовью — бесплатно, говорить тебе, что ты плохой, — бесплатно, не любить тебя… Почему ты спишь с Полой?
— Все дело в запахах, — сказал Оливейра, садясь на железный брус у самой воды. — Мне почудилось, что от нее веет ароматами «Песни песней», корицей, миррой, чем-то в этом роде. Оказалось — так и есть.
— Бродяжка сегодня не придет. А то бы уже была здесь. Она почти всегда приходит.
— Иногда их забирают в тюрьму, — сказал Оливейра. — От вшей почистить, наверное, и чтобы город поспал спокойно на берегах своей бесстрастной реки. Бродяга — это еще неприличней, чем разбойник, каждому ясно; однако с ними ничего не могут поделать, и приходится оставить в покое.