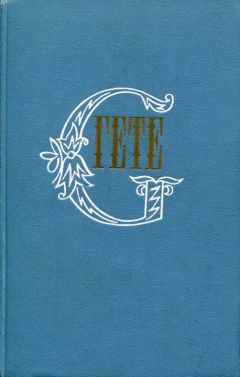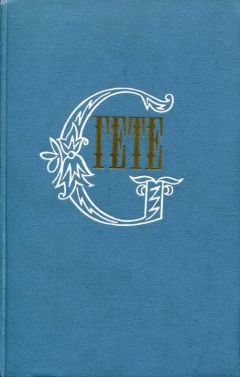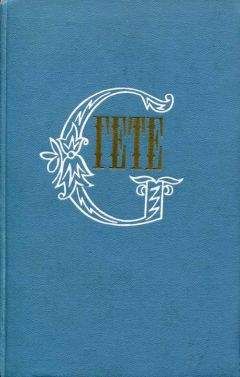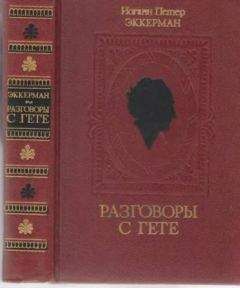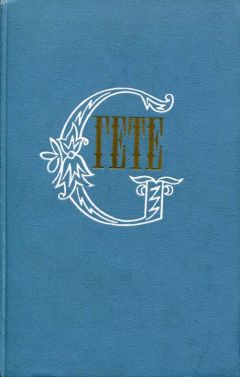Иоганн Гете - Годы учения Вильгельма Мейстера
Старуха упала наземь возле стула и горько зарыдала. На сей раз Вильгельм уверился в том, что Мариана умерла, и скорбь овладела им.
Старуха поднялась.
— Больше мне нечего вам сказать! — выкрикнула она и бросила на стол какой-то сверток. — Прочитайте эти листки — вам вдвойне станет стыдно своей жестокости! Не знаю, можно ли читать их без слез.
Она бесшумно выскользнула вон, а у Вильгельма в эту ночь не хватило духу открыть портфельчик, который он сам подарил Мариане и знал, что она бережно хранила там каждую записочку, полученную от него. На другое утро он пересилил себя, развязал ленту, и из портфеля выпали листочки бумаги, исписанные его собственной рукой; они воскресили в его памяти все события прошлого, от первого радостного дня знакомства до последнего страшного дня разлуки. И с жгучей болью прочитал он пачку записок, обращенных к нему. Их отсылал назад Вернер.
«Ни одно из моих писем не попало к тебе. Мои мольбы и заклинанья не достигли тебя; неужто сам ты дал такой жестокий приказ? Неужто я никогда больше тебя не увижу? Попытаюсь еще раз. Молю тебя: приди, о, приди! Я не требую, чтобы ты остался, только бы хоть раз еще прижать тебя к сердцу».
«Когда в прежние дни я сидела возле тебя, держала твои руки, заглядывала тебе в глаза и от всего сердца, полного любви и доверия, говорила: «Милый, милый, добрый мой муж!» — тебе так нравилось слушать это и ты хотел, чтобы я все повторяла эти слова; вот я повторяю их еще раз: «Милый, милый, добрый мой муж, будь таким же добрым, как был, приди и не дай мне погибнуть от горя!»
«Ты считаешь меня виноватой, я и виновата, но не тал, как ты думаешь. Приди, дай мне последнее утешение, что ты знаешь меня, какая я есть, а там будь что будет».
«Не только ради себя, но и ради тебя самого молю я, чтобы ты пришел, я чувствую, какую ты терпишь муку, избегая меня. Приди, чтобы смягчить жестокость расставания!
Может быть, больше всего я была достойна тебя как раз в ту минуту, когда ты оттолкнул меня и бросил в бездонную пропасть отчаяния!»
«Во имя всего святого, во имя всего, что может тронуть человеческое сердце, взываю я к тебе! Дело идет о душе и о жизни, о двух жизнях, из которых одна должна быть тебб навеки дорога. В своей подозрительности ты и этому не придашь веры, и все же я говорю тебе в смертный свой час: твое дитя я ношу под сердцем. С тех пор как я тебя полюбила, никто другой даже руку не посмел мне пожать. О, почему твоя любовь, твое прямодушие не были от юности моими спутниками!»
«Ты не хочешь меня выслушать? Что же, придется мне умолкнуть, но эти письма не должны погибнуть; может быть, им еще суждено воззвать к тебе, когда мои уста уже покроет надгробная пелена и голос твоего раскаяния не достигнет моих ушей. За всю мою печальную жизнь вплоть до последней минуты единственным утешением будет мне, что нет у меня вины перед тобой, хоть я и не смею назвать себя невинной».
Вильгельм не мог продолжать — горе захлестнуло его; но еще тягостнее было ему скрывать свои чувства, когда в комнату вошел Лаэрт с кошельком, полным дукатов; он их считал и пересчитывал и уверял Вильгельма, что в мире нет ничего лучше, чем быть на пути к богатству; богатому нет ни в чем помех и препон.
Вильгельм вспомнил свой сон и улыбнулся, но тут же спохватился, с содроганием припомнив, что в том же сновидении Мариана покинула его и последовала за его умершим отцом, а потом оба, точно духи, воспарили над садом.
Лаэрт оторвал его от грустных дум и повел в кофейню, где Вильгельма обступили люди, весьма одобрявшие его как актера; они порадовались встрече с ним, но выразили сожаление, что он, по слухам, намерен покинуть сцену; они так уверенно и разумно говорили о нем, об его игре и даровании, о том, какие надежды возлагали на него, что под конец Вильгельм, расчувствовавшись, воскликнул:
— Как ценно было бы мне ваше участие несколько месяцев тому назад! Как поучительно и как радостно! Ни за что бы я тогда не отрешился так безоговорочно от театра и не дошел бы до того, чтобы разочароваться в публике.
— До этого уж никак нельзя было дойти, — выступая вперед, заявил пожилой мужчина. — Публика многочисленна, подлинное понимание и умение чувствовать встречаются не так редко, как принято думать; только артисту нельзя ждать от публики безоговорочного одобрения всего, что бы он ни создавал, — именно безоговорочное-то недорого стоит, а оговорки господам артистам не по нутру. Я знаю, в жизни, как и в искусстве, прежде чем что-то сделать или создать, надо прислушаться к своему внутреннему голосу; когда же все кончено и завершено, вот тогда следует внимательно выслушать многих и при помощи навыка составить из этих многочисленных голосов полноценное суждение, ибо те, кто мог бы избавить нас от такого труда, предпочитают помалкивать.
— Им не следовало бы так себя вести! — сказал Вильгельм. — Я не раз слышал, как люди сами словом не обмолвятся об удачных произведениях, а при этом скорбят и сетуют, что о них молчат!
— Так поговорим же сегодня всласть! — крикнул какой — то молодой человек. — Если вы с нами отобедаете, мы сквитаем свой долг перед вами, а отчасти и перед милейшей Аврелией.
Вильгельм отклонил приглашение и отправился к мадам Мелина потолковать с ней о детях, которых думал забрать у нее.
Тайна старухи оказалась не в надежных руках. Он не замедлил проговориться, как только увидел красавчика Феликса.
— Дитя мое! Дорогое мое дитя! — воскликнул он, поднял его и прижал к своему сердцу.
— Папа, что ты мне привез? — спросил мальчик. Миньона поглядела на обоих, как бы наказывая им не выдавать себя.
— Что это еще за новость? — удивилась мадам Мелина.
Детей поспешили выдворить, и Вильгельм, не считая себя обязанным блюсти тайну старухи, поведал приятельнице всю историю. Мадам Мелина с улыбкой посмотрела на него.
— Ох, и легковерный же народ мужчины! — воскликнула она. — Как легко навязать им все, что бы ни попалось на их пути; зато в другие разы они не глядят по сторонам и не придают цены ничему, кроме того, что когда-то отметили своей любовной прихотью. — Ей не удалось подавить вздох, и, ие будь Вильгельм совершенно слеп, он заметил бы в ее поведении следы так и не изжитой склонности.
Он заговорил с ней о детях, о том, что Феликса думает оставить у себя, а Миньону отправить в деревню. Как ни огорчилась мадам Мелина разлуке сразу с обоими детьми, однако сочла такое решение удачным и даже необходимым. Феликс совсем одичал у нее, а Миньона явно нуждалась в свежем воздухе и других условиях жизни; бедная девочка была слаба здоровьем и никак не могла окрепнуть.
— Не приписывайте легкомыслию мои сомнения в том, действительно ли вы отец ребенка, — продолжала мадам Мелина. — Конечно, старуха не очень-то заслуживает доверия; но кто ради своей выгоды измышляет неправду, тот может разок сказать и правду, коль скоро она покажется ему полезной. Аврелии старуха нашептала, будто Феликс — сын Лотарио, а мы, женщины, отличаемся той особенностью, что горячо привязываемся к детям наших любовников, либо вовсе не зная матери, либо ненавидя ее всей душой.
Тут вприпрыжку вбежал Феликс, и она прижала его к себе с горячностью, ей совсем не свойственной.
Вильгельм поспешил домой и позвал к себе старуху, однако она пообещала прийти только в сумерки; он встретил ее неприветливо и сразу заявил:
— Что может быть постыднее, чем сочинять сказки и враки. Ты уж и прежде натворила этим много зла, а ныне, когда от твоего слова зависит счастье моей жизни, ныне я полон сомнений и не смею заключить в свое объятие дитя, спокойное обладание коим сделало бы меня поистине счастливым. Не могу без ненависти и презрения смотреть на тебя, мерзкая тварь!
— Скажу напрямик, я дольше не в силах терпеть ваше поведение, — ответствовала старуха. — Допустим, он не был бы ваш сын, все равно это самый красивый, самый милый ребенок на свете, и всякий рад бы любой ценой приобрести его. Разве не стоит он того, чтобы вы взяли на себя попечение о нем? А разве я, положив на него столько трудов и забот, не заслужила скромной поддержки на остаток дней? Да, вам, господам, хорошо рассуждать о правде и прямоте, вы бедности не знавали; но горемычной старухе, которая нигде не находит подспорья в самых насущных своих нуждах, которую в трудную минуту никто не поддержит ни участием, ни советом, ни помощью, каково-то ей пробиваться сквозь людскую черствость и бедовать в тиши, — вот о чем много бы можно сказать, только вы не умеете и не желаете слушать. Прочитали вы письма Марианы? Их она писала в ту злосчастную пору. Тщетно пыталась я добраться до пас, напрасно билась, чтобы передать вам эти письма; ваш бесчеловечный зять огородил вас таким заслоном, который я не могла одолеть ни хитростью, ни сметкой, а когда ои под конец пригрозил нам с Марианой тюрьмой, мне поневоле пришлось оставить всякую надежду. Разве все §то не совпадает с моим рассказом? И разве письмо Норберга не устраняет всякие сомнения?