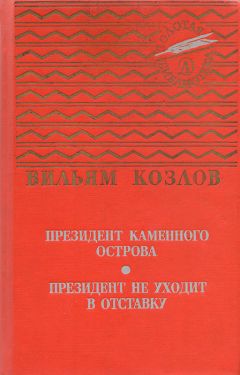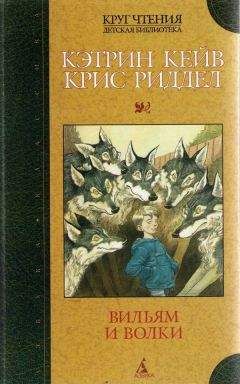Вильям Хайнесен - Избранное
Магистр не мог оторвать нежного взора от молодой женщины на диване. Она походила… на заброшенную испанскую принцессу, да, пожалуй: тонкая, горячая, юная — и заброшенная! Ах, эта алчущая жизни душа, в чьи серые будни внезапно ворвалась сказка… точно солнечный луч в унылый сумрак полутемной каморки!
Он подошел и положил руку ей на плечо, пытаясь поймать ее взгляд, но она отводила глаза. На лице ее не было никакой радости. Она плакала!
«Ну вот, стало быть, без мелодрамы все-таки не обойдется», — подумал он. Ладно, пусть. И то сказать, ситуация не из обычных. Если уж на то пошло, сам-то он разве не разыгрывал всевозможные мелодрамы весь этот день! Но теперь он опять пришел в равновесие. Для которого, по-видимому, требовалось лишь это. Атланта. Женщина. Связующее звено между мужчиной и действительностью…
— Атланта! — сказал он, стараясь по возможности избежать чересчур сентиментального тона. — Мы с тобою так долго вместе мыкали горе, что вполне заслужили немножко радости, правда?
Она припала к нему, прильнула всем телом, страстно, без слов, пряча от него глаза.
Мортенсена охватило на миг глубокое и полное ощущение душевного мира, здорового, благостного покоя… словно он сбросил десятка два лет и возвратился в далекую пору ранней молодости, стал двадцатилетним… это непередаваемое ощущение простого счастья мужчины с женщиной, неисчерпаемых возможностей будущего…
И при всем том где-то в глубине души — тошнотворное ощущение зарождающейся обывательской идиллии, пошлой сытости, посредственности…
И — невероятно! — подспудная тоска по прошлому, болезненная тоска по прежней неустроенности, заботам и огорчениям, отчаянию, ненависти… по своему сочинению. Книга о Сатане! Как же теперь с ней? Отказаться? Ну нет, черта с два! А все же, не лишился ли он морального права писать такую книгу?
— Ну, моя девочка, — внезапно произнес он и дружески похлопал Атланту по плечу, — давай-ка ложиться спать, утро вечера мудренее! А то я устал как собака, да и ты, мне кажется, тоже.
И в самом деле, Мортенсен был совершенно измотан и опустошен, сон обрушился на него и затопил, точно пронизанная ливнем тьма, и он блаженно отдался в его власть,
12. Еще о магистре Мортенсене, воистину переживавшем необыкновенные потрясения, а также о Смертном Кочете, перед которым тоже неожиданно разверзлась безднаМагистр Мортенсен проснулся полуодетый на диване и обнаружил, что проспал на два часа дольше обычного. Не сразу, с некоторой задержкой, всплыли в памяти перипетии вчерашнего дня — ох, и верно ведь… как же! Что делается! Если только это ему не приснилось.
Он вскочил, дрожа от холода и недомогания, торопливо выдвинул ящик письменного стола, в котором, если это правда, должно лежать злополучное письмо. Да, вот оно. Он усмехнулся, зябко ежась…
Как ни странно, Атланта тоже еще не встала. В кухне было холодно и сыро. Он постучал в дверь ее спаленки и вернулся в гостиную. Солнце стояло уже высоко в небе, залив и море были как одно переливающееся платиновое зеркало. Вдали виднелись две рыбачьи лодки, они то исчезали в ослепительно ярком сверкании, то вновь вырисовывались с филигранной отчетливостью. А над самым горизонтом поднимался пароходный дымок. По всей вероятности, «Мьёльнер», крупное пассажирское судно, заходившее сюда вчера по пути в Копенгаген.
«А ведь ты, почтеннейший, мог уехать этим пароходом! — про себя ухмыльнулся магистр. — Тебе ничего не стоило получить нужную сумму взаймы под это письмо, перед тобой же еще стали бы расшаркиваться и лебезить, приносить поздравления и угодливо вилять хвостом!»
Солнечные лучи затопляли комнату теплом и резали глаза. Мортенсен зевнул, потянулся и протяжно, задумчиво вздохнул. А это еще что такое? Он вдруг заметил на столе, перед самым своим носом, листок бумаги, исписанный неуклюжим детским почерком.
Это было письмо. Он сел и торопливо пробежал его глазами. Оно было от Атланты.
Дорогой Мортенсен!Когда ты будешь читать это письмо, я уже буду отсюда очень далеко, я уезжаю на «Мьёльнере», я все время хотела тебе об этом сказать и вчера вечером тоже хотела, но так и не смогла, а решила я это уже давно, что мне нельзя больше с тобой оставаться, потому что у меня есть жених, и вот теперь я должна с ним уехать, ему двадцать шесть лет, и больше я никогда не вернусь, жена Иосефа, Сарина, тоже уезжает, спасибо тебе за все, теперь все у нас кончено, я ужасно тебя люблю и нашу Вибеке тоже, я тебя никогда не забуду, в сердце моем такая печаль, ты, пожалуйста, на меня не сердись, тут ничего нельзя изменить, и я поздравляю тебя с твоим наследством.
Твоя Атланта.Магистр поднялся с места, резко, отрывисто хохотнул.
— Катись хоть в преисподнюю, — буркнул он. — Скатертью дорога!
«Черт с ней, — утешал он себя. — Она же ведьма была, что ни говори. И К тому же слишком молода для тебя. Да и вообще…»
Так, ну что же? Зажечь примус и поставить воду для кофе.
Примус стоял на месте, но спички найти он не мог. Коробка у него в кармане оказалась пуста, а в кухне спичек было не видно. Может, у Атланты в комнате коробка завалялась. Он рванул дверь. Увидел ее кровать. Аккуратно прибранную, со свежими простынями.
— Ах ты… сука гулящая! — с угрозой простонал он. — Да мне плевать! И слава богу, что приличным манером от тебя отделался!
В воздухе висел приторный запах дешевых духов. Трогательный запах.
«Umgiebt mich hier ein Zauberduft…»[48]
Он покачал головой, присел на пустую кровать и почувствовал, как что-то задергалось у него в горле или в груди… точно струна оборвалась… та самая пресловутая струна, одна из непременных красот жестоко-романтических страданий.
— Ах ты… чертова кукла! — сказал он опять, прижимаясь лицом к ее подушке.
Она так ясно представилась ему: молодое, горячее лицо, пухлые губы, ласковые, дерзкие глаза, лишенные одухотворенности, да, конечно… однако же была в них и доброта, и нежность, и вся глубина сверкающей алмазами женственности! Ее молодые, пышные волосы и маленькие красивые уши, ее шея и плечи, ее кожа, матово-белая и удивительно нетронутая, без малейшего изъяна… кожа девственницы, ха-ха! Ее милые, красивые девичьи руки, ее живая, электрическая грудь!..
«В сердце моем такая печаль!» Что ж, весьма благодарен. Ладно, довольно ломать дурака!
Он поднялся, постоял минуту в дверях, в душе разлилось глухое презрение к самому себе. Фу! Старый болван! Кой черт, на что ты, собственно, рассчитывал? Ей двадцать четыре, а тебе сорок семь! Вы не были ни женаты, ни вообще ничего. Ты ей опостылел. И она чихала на твои деньги. Что, кстати, лишний раз показывает, какая она редкая женщина!
«В сердце моем такая печаль!» Это, несомненно, искренние слова. Она медлила, но под конец приняла свое решение, как сделал бы любой другой здоровый, нормальный человек…
А ты… ты в нерешительности мечешься из стороны в сторону, обессилевший, продрогший, словно больной мотылек, жалеющий о том, что разрушил свой кокон, и тоскующий о превращении снова в метафизическую куколку!..
Он пошел в кухню. И опять забылся, уйдя в свои мысли. Назойливый голос у него внутри воскликнул со страстной мольбой: ты ее любил! Ты и сейчас любишь ее! Можешь называть это как угодно, но это несчастная любовь.
Он тяжело опустился на кухонную лавку и, приподняв брови, устремил взгляд в пустоту. В гостиной щедро струили тепло солнечные лучи. Покачав головой, он встал и пошел туда. Вот он и здесь.
Так что же? Да, прежде всего надо раздобыть коробку спичек. Глухо и жалобно он сказал:
— Господи ты боже мой. Должны же где-то быть спички в доме.
Нет, их не было.
Но можно сходить в лавку к Якобу Сиффу.
Вибеке проснулась и ждала, кротко и безропотно, чтобы кто-нибудь пришел, помог ей встать. Она никогда сама не вставала.
Мортенсен вытащил из корзины для бумаг скомканное письмо, разгладил его, но тотчас снова скомкал, даже не заглянув в написанное. Спички, черт дери!
В магазинчике Якоба Сиффа солнце ярко светило на отполированный до блеска прилавок. Магистр взял коробку спичек и поспешил обратно. Примус был зажжен, и чайник поставлен на огонь. А, прах тебя побери… кофе тоже нигде не было видно. Снова к Якобу Сиффу.
— Ваша экономка-то уехала? — спросил лавочник, и Мортенсен молча кивнул в ответ.
— Смертный Кочет совсем не в себе, — продолжал лавочник, — от него жена сбежала.
Магистр невольно вздрогнул. Он вспомнил, ведь в письме Атланты и об этом что-то написано.
— Просто ума человек лишился, — сказал лавочник.
— Да уж, черт возьми, — ответил магистр и заторопился домой со своим кофе.
На лестнице он наткнулся на Смертного Кочета. Мортенсен опасливо покосился на маленького альбиноса, который с совершенно потухшим, сомнамбулическим видом стоял в дверях своей квартиры.