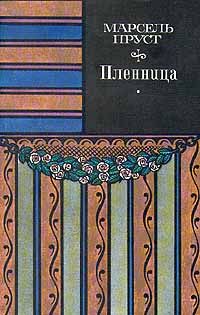Марсель Пруст - Пленница
Так и Достоевский изображает своих героев. Поступки их представляются нам столь же обманчивыми, как и эффекты Эльстира, где море кажется находящимся на небе. Мы бываем страшно поражены, узнав, что этот мрачного и злодейского вида человек, в сущности, превосходная душа, или наоборот». — «Да, но приведите какой-нибудь пример из госпожи де Севинье». — «Признаться, — отвечал я со смехом, — это сильно притянуто за волосы, но все-таки подыскать примеры я бы мог». — «А скажите, не был ли он убийцей, Достоевский? Все его романы, которые я знаю, можно было бы назвать историей какого-нибудь преступления. У него это прямо-таки наваждение, он, как ненормальный, все время говорит об этом». — «Не думаю, милая Альбертина, я плохо знаю его жизнь. Очевидно, он, как и все люди, в той или иной форме познал грех, но по всей вероятности в форме, запрещаемой законами. В этом смысле он, должно быть, является немного преступником, подобно своим героям, которые, впрочем, не совсем преступники, их приговаривают к наказанию, учитывая смягчающие обстоятельства. Может быть, даже ему вовсе и не нужно было быть преступником. Я не романист; возможно, что творческие умы прельщаются некоторыми формами жизни, которых они лично не испытали. Если я поеду с вами, как мы условились, в Версаль, я вам покажу портрет безупречнейшего человека, лучшего из мужей, Шодерло де Лакло, который написал в высшей степени порочную книгу, и прямо напротив него портрет госпожи де Жанлис, которая писала нравоучительные повести, но не только обманывала герцогиню Орлеанскую, но еще и свела ее в могилу, поссорив с ней ее детей. Я согласен все же, что у Достоевского этот интерес к убийству представляет собой нечто исключительное и делает его мне очень чуждым. Я сильно поражен уже, слыша от Бодлера:
Коль пожары, насилья, ножи и отравы
Не сумели узором своим разубрать
Наших судеб никчемных истертую гладь,
Значит, души у нас — что поделать! — трухлявы.
Но я могу, по крайней мере, не верить в искренность Бодлера. Между тем как Достоевский… Все это кажется мне невероятно далеким от меня, разве только во мне есть элементы, о которых я ничего не знаю, ведь мы осуществляем заложенные в нас возможности постепенно. У Достоевского я нахожу исключительно глубокие внутренние источники, но лишь в некоторых обособленных областях человеческой души. Однако это художник великой творческой силы. Прежде всего изображаемый им мир в подлинном смысле слова является его созданием. Все эти беспрестанно возвращающиеся шуты, все эти Лебедевы, Карамазовы, Иволгины, вся эта невероятная процессия состоит из персонажей более фантастических, чем те, которыми заполнен «Ночной дозор» Рембрандта. Может быть, даже фантастичность их обусловлена, как и у Рембрандта, освещением и костюмами, по существу же они люди заурядные. Во всяком случае, в них содержатся истины глубокие и единственные в своем роде, которые можно встретить только у Достоевского. Эти шуты имеют такой вид, точно они играют роли, которых больше не существует, вроде некоторых персонажей античной комедии, и все же как ярко вскрывают они реальные стороны человеческой души! Что мне претит, так это торжественный тон, которым говорят и которым пишут о Достоевском. Обратили вы внимание на роль, которую играют у его персонажей самолюбие и гордость? Можно подумать, что для него любовь и самая дикая ненависть, доброта и вероломство являются лишь двумя состояниями одной и той же природы, поскольку самолюбие, гордость мешают Аглае, Настасье, капитану, которого Митя оттаскал за бороду, Красоткину, другу-врагу Алеши, показать себя такими, как они есть в действительности. Но у Достоевского можно найти еще много других глубоких вещей. Я очень мало знаю его книги. Но разве не является величественно простым скульптурным мотивом, достойным античного искусства, чем-то вроде прерываемого и возобновляющегося фриза, на котором развертываются месть и искупление, преступление Карамазова-отца, обрюхатившего несчастную полоумную, и загадочный, животный, непостижимый порыв, в силу которого мать, обратившись бессознательно в орудие мщения судьбы и повинуясь столь же безотчетно своему материнскому инстинкту, может быть, смеси злопамятства и физической признательности к насильнику, идет рожать к Карамазову-отцу? Это первый эпизод, загадочный, величественный, торжественный, как сотворение женщины на скульптурах Орвието. С ним перекликается второй эпизод лет через двадцать с лишком, убийство Карамазова-отца, позор, бросаемый на семейство Карамазовых сыном этой полоумной, Смердяковым, за которым вскоре следует поступок, столь же загадочно скульптурный и непонятный, такой же темной, животной красоты, как и роды в саду Карамазова-отца, — Смердяков накладывает на себя руки, после того как он совершил преступление. Что же касается Достоевского, то я его не покидал, как вы думаете, заговорив о Толстом, который ему сильно подражал. У Достоевского содержится в концентрированном и сумрачном виде многое из того, что развернется в более светлых тонах у Толстого. Достоевскому свойственна мрачность примитивов, которая будет прояснена учениками». — «Милый мой, как досадно, что вы так ленивы. Посмотрите, насколько ваши взгляды на литературу интереснее того, как нас заставляли ее изучать; сочинения, которые нам задавали на темы из «Эсфири»: «Владыка», вы помните?» — сказала она мне со смехом, не столько для того, чтобы поиздеваться над своими учителями и над собой, сколько обрадовавшись тому, что нашла в своей памяти, в общей нашей памяти, довольно старое уже воспоминание.
Но в то время, как она со мной говорила, а я думал о Вентейле, уму моему представилась другая гипотеза, материалистическая, гипотеза небытия. Я начал сомневаться, я стал говорить себе, что в конце концов, если фразы Вентейля кажутся выражением некоторых душевных состояний, вроде того, что я испытал, глотая размоченную в чае мадлену, у меня нет никакой уверенности в том, что расплывчатость подобных состояний служит признаком их глубины, а не свидетельствует лишь о нашем неумении их анализировать, и в них поэтому не содержится ничего более реального, чем в прочих наших ощущениях. Однако счастье, чувство уверенности в счастье, испытанном мной, когда я пил чашку чаю, когда я вдыхал на Елисейских полях запах старого леса, не было иллюзией. Во всяком случае, говорил мне дух сомнения, даже если такие состояния отличаются в жизни большей глубиной, нежели прочие, и не поддаются анализу именно по этой причине, потому что они вводят в действие слишком много сил, в которых мы еще не разобрались, прелесть некоторых фраз Вентейля напоминает их тем, что и она тоже не поддается анализу, но это не доказывает, что ей свойственна такая же глубина; красота фразы из области чистой музыки легко представляется копией или, по крайней мере, родственницей какого-нибудь нашего интеллектуального впечатления, но просто потому, что она не интеллектуальна. С какой же стати тогда будем мы приписывать особенную глубину таинственным фразам, уснащающим некоторые произведения, в частности, септет Вентейля?
Впрочем, не только музыку Вентейля играла мне Альбертина; пианола служила для нас по временам как бы образовательным (историческим и географическим) волшебным фонарем, и на стенах моей парижской комнаты, снабженной более современными изобретениями, чем комната в Комбре, я видел, смотря по тому, играла ли Альбертина Рамо или Бородина, то гобелен XVIII века, усеянный амурами на фоне роз, то восточную степь, где звуки глохнут в необъятных пространствах и в снежных сугробах. Эти мимолетные картины были, впрочем, единственным украшением моей комнаты, ибо если по получении наследства от тети Леонии я подумал было собирать коллекции, подобно Свану, покупать картины, статуи, то все мои деньги уходили на приобретение лошадей, автомобиля, туалетов для Альбертины. Но разве комната моя не заключала произведения искусства более драгоценного, чем все перечисленные? Им была сама Альбертина. Я глядел на нее.
Мне странно было думать, что та самая Альбертина, даже знакомство с которой я так долго считал невозможным, в настоящее время, прирученный дикий зверь, розовый куст, которому я дал подпору, рамку, обстановку, сидела вот так ежедневно у себя дома, возле меня, за пианолой, прислонившись спиной к моему книжному шкафу. Плечи ее, которые я видел опущенными и понурыми, когда она относила кии для гольфа, опирались на мои книги. Ее красивые ноги, усердно нажимавшие в течение всего ее отрочества на педали велосипеда, как я справедливо подумал, увидя ее впервые, поднимались и опускались поочередно на педалях пианолы, куда Альбертина, сделавшаяся теперь элегантной и более мне близкой, потому что элегантность пришла к ней от меня, ставила свои туфли из золоченой кожи. Ее пальцы, некогда привыкшие к велосипедному рулю, ложились теперь на клавиши, словно пальцы святой Цецилии. Ее шея, поворот которой, видимый с моей кровати, был полный и массивный, на этом расстоянии и в свете лампы представлялась более розовой, но все же не настолько, как ее наклонившееся в профиль лицо, которому мои взгляды, исходившие из самой глубины моего существа, отягченные воспоминаниями и горящие желанием, придавали столько блеска и такую полноту жизни, что его рельеф, казалось, поднимался и поворачивался с такой же, почти волшебной силой, как и в бальбекской гостинице в тот день, когда зрение у меня было затуманено неистовым желанием ее поцеловать; каждую его поверхность я мысленно продолжал за пределы, доступные моему зрению, и в местах, от меня спрятанных — веками, полузакрывавшими ее глаза, прической, прикрывавшей верхнюю часть ее щек, — где еще отчетливее ощущалась выпуклость этих наложенных одна на другую плоскостей. Глаза ее мерцали, как два отшлифованных поля на куске породы, заключающей в себе опал: сделавшись более блестящими, чем соседние части, они дают увидеть посреди непрозрачной материи, их окружающей, словно лиловые шелковистые крылья помешенной под стекло бабочки. Ее черные кудрявые волосы, — показывая различные фигуры, когда она оборачивалась ко мне с вопросом, что ей играть: то роскошное крыло, заостренное на кончике и широкое у основания, черное, оперенное и треугольное, то массив завитков, образующих своим сплетением мощную и причудливую горную цепь, полную крутых вершин, водоразделов, пропастей, — ее волосы своим поразительным богатством и сложностью, казалось, превосходили разнообразие, производимое обыкновенно природой, и отвечали скорее желанию скульптора, нагромождающего трудности, чтобы щегольнуть гибкостью, огнем, мягкостью и жизненностью своего мастерства, и еще ярче оттеняли, пересекая и прерывая их, пышущую жизнью округлость и как бы вращение гладкого розового лица, своим лакированным матовым тоном напоминающего крашеное дерево.