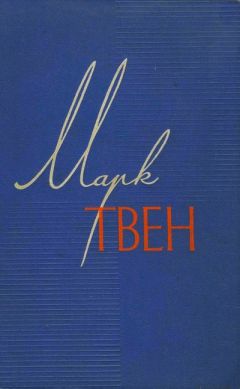Юз Алешковский - Собрание сочинений Т 3
Гелий забылся. Ничто в те минуты, кроме смерти, не могло бы оторвать его от захваченности странным, разрешающим всю абсурдность существования, чувством освобождения от сил длительности и протяженности всемогущего Времени. Он шептал почти недвижными губами: «Моисей всегда выводит евреев из Египта… Будда всегда скармливает себя голодной тигрице… сегодня, как всегда, Рождество… Его Рождество…»
Гелий шевельнул рукой. НН, заметив это, взяла ее в свою руку. Он сжал ее, надеясь на понимание движения души, почти уже не имевшей сил для одухотворенной связной речи.
– Геша, живи… не то я не прощу себе той своей тупости… не прощу… живи, то есть прости… простишь?
Он притянул ее руку к своим вспухшим, холодным губам. Потом слабо отпустил.
51
Несколько женщин вместе со священником и доктором, схватившись за воротник, полы, края и лацканы пальто, неумело несли распластанного на нем Гелия. Он действительно покачивался, как в люльке, немного перекатываясь то влево, то вправо, сначала головой вверх, а потом – вниз, когда спускались по ступенькам паперти к машине.
Убаюканный движением и заботой о себе живых людей, он уже мягко проваливался куда-то, как вдруг вспомнил – заволновался, что его ночного приятеля нет рядом. НН снова приблизила ухо к его губам, смогла разобрать просьбу и постаралась отвлечь Гелия от беспокойства за судьбу котенка.
Это счастливо помершее во сне существо не смогло, должно быть, пережить душевного потрясения. Ясно было и НН, и Грете, и Мине, и старушкам с батюшкой, что потрясение это было вызвано счастьем совершенно неожиданного участия человека в судьбе котенка, родственной близостью и теплотой живого тела, помещенностью в приют защиты от стихий и, конечно, случайной сытостью, тоска по которой чуть ли не с первого же дня рождения успела довести инстинкт самосохранения этой крохи до крайнего уныния и безумной отваги. Хотя, вполне возможно, все это счастье и вся эта радость, свалившиеся с московских холодных, завьюженных, угрюмых небес, показались замученному жизнью котенку чудесным сном, и он снова заснул так, чтобы заодно никогда уж больше не просыпаться.
Гелий успокоился, вполне доверившись словам НН, и вновь поразился той отвратительности, с которой его разум – натренированный, кстати, издавна им самим, но, разумеется, не без помощи зелененькой мрази – упрямо превращал в проблему бесконечного бухгалтерского выбора, скажем, любовь к НН, не раз открывавшуюся его душе с очевидной ясностью, обещавшую пожизненную страсть и радость освобождения от суетной тоски бессмысленного времяпрепровождения… «а ты все гадал, все гадал: люблю, собственно, или не люблю?… жениться или, мягко говоря, продолжать захаживать с безответственной охапкой мимоз и сувенирчиками из Парижей?… думал: а вдруг развал, тоска разводная, раздел имущества?… да загвоздись оно в доску и пропади пропадом!… какое имущество?… кому оно нужно?… душа моя, прости ты меня за все изгиляния над тобой и за все унижения… прости, а потом… в сущности и в конечном счете, никого и ничего не осталось у меня, кроме тебя…»
Потом он понял, что находится в ее машине, и его кольнула обида, что НН буквально ни разу за годы знакомства не откровенничала с ним ни о делах, ни о мелких мытарствах общего адского быта, ни о последней покупке, скажем, вот этой машины, ни о выгодном – с прелестным, оказывается, прицелом на материнство – обмене квартиры с Зеленковым проклятым… «впрочем, при чем тут физик-теоретик?… ни разу, надо же, не намекнула ни словом, ни жестом, ни косорылием капризным, ни лобовой атакой настроения или истерической сменой его на то, что следует внести определенность в отношения и радоваться… радоваться… ясно же, что нравимся мы друг другу… ни разу… вот гордыня разномастных предков… вот нрав… вот злодейски тайная песня натуры… люблю… люблю… люблю… бешено обожаю и уважаю, но я-то, конечно, невероятное говно и мразь…»
Изредка она оборачивалась к нему, на миг отрывая взгляд от дороги, прерывала какие-то разговоры с доктором и спрашивала: как ты там? Он снова не мог не чуять в голосе ее, доносившемся до него как бы из дальнего далека, то, что сообщает даже самому жалкому человеку чувство непокинутости и неоставленности в любой пустыне мира.
Тогда он как-то дотягивал до спинки сиденья руку, НН быстро дотрагивалась до нее, гладила, сжимала, и он снова проваливался… покачивалась фельдшерица со склянкою нашатыря… прохожие, милиция, улицы, лица мелькали в свету фонаря… мне сладко при свете неярком… О Господи, как совершенны дела Твои… Ты держишь меня, как изделье… и прячешь, как перстень в футляр…
Вдруг, не в первый уже раз за эту ночь, мелькнула у него то ли в голове, то ли в сердце не то абсолютно бессловесная мысль, не то чувство, исполненное таинственно неизреченного, целебного смысла.
Чувство это смутило его ожившую совесть, то есть ум и душу, согласно переживавшие ужас событий и как бы ревниво обращавшие себе в упрек легкость, с которой они вдруг, так вот запросто, взяли да и примирились с очевидной безысходностью и необратимостью всего случившегося… к лучшему… «ни хрена себе – к лучшему, когда хуже вообще не бывает».
Тем не менее, когда проклинаем мы все начала и концы, смертельно холодеем от тайны течения Времени, с кровью и с кусками легких выблевываем плебейскую отраву жестоко поучительной советской истории, кривимся от обид и ненависти к нелепому мироустройству, свойски вроде бы, судя по всему, расположенному не к органически благородной норме справедливости, а к беспределу хаоса, к бездушной пошлости и к торжеству хамской силы, когда и жить-то нам уже невмоготу от ударов рока, под корень подкашивающих собственные наши душевные силы или убивающих нас несчастьями ни в чем не повинных ближних, – тем не менее мудрое это чувство ответственно заверяет тех из нас, которые не закрыты для него даже в самые иногда беспросветные минуты жизни, что все – к лучшему… как бы то ни было – к лучшему… Что и как именно – ничего нам не ясно. Все разъяснительные и внятные для разума детали остаются до каких-то сроков в тумане, клубящемся над обрывом частных наших жизней и общих Времен – в Вечность.
Но если каким-то образом проникает, если проникла в наши существа эта тайная, непостижимая мудрость Небес и личная Их вера не только в поучительное устроение исторического Бытия, но и в нашу не бессвязную, хотя и ничтожную в него помещенность, то мы, должно быть, именно в эти мгновения причащаемся Чуду соразделения Божественных Надежд и несколько уподобляемся Тому, Кто с Любовью отважился на Сотворение Вселенной, рискнув наделить Человека в начале его становления Даром трагически свободного, непредсказуемого саморазвития…
«…К лучшему… к лучшему…» – ликовал про себя Гелий, когда его, повисшего на плечах НН и доктора, несли через двор… втащили по лестнице в лифт… НН зазвенела ключами… но нужный не сразу нашла… иголочка все выскребывала и выскребывала из той самой колдобинки на пластинке бедные остатки прелестных тактов мелодии начала – мелодии, совсем охрипшей, совсем сорвавшей голос, но чудом продолжавшей звучать, пока не встрепенулась она от случайного сотрясения пола под шагами вернувшихся людей, пока не ожила и не перешла в долгожданное продолжение самой себя, за мгновение до того, как прерваться вдруг в квартире и в ушах у совершенно счастливого Гелия.
Кромвель, 1992
СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
Дорогие и глубокоуважаемые дамы и господа присяжные заседатели!
Какие меня сегодня переполняют чувства? Во-первых, это чувство законной ненависти и бурного презрения к потерпевшей, то есть к бывшей жене, сидящей тут, как в почетном президиуме профсоюзного собрания, с профурсетской физиономией и приковывающей к ней вспышки нашей продажной, но, к сожалению, свободной прессы, расписавшей меня на своих желтых страницах почище, чем Чикатилу, и как помесь члена с ментом, то есть секшуал херасмента, если выражаться на хорошем английском.
Во-вторых, господа, самое положительное чувство я испытываю сегодня вместе со всеми вами, нежданно-негаданно попавшими из гражданской, можно сказать, тряхомудии прямо на двенадцать присяжных стульев.
Это, как правильно заметил господин прокурор, успех курса, потерпевшего крах в семнадцатом году, но теперь снова вызванного на эстраду истории вершить бесклассовую справедливость над человеческим фактором.
Хорошо, конечно, что остались в нашем славном прошлом тройки, особые совещания и пуля в лоб чернильным росчерком пера культа личности. Это хорошо. Но составом присяжных я, откровенно говоря, полностью не у-до-влет-ворен, извините за выражение, практикуемое на клубничных страницах полового листка «ЕЩЁ». В эти вот минуты горький осадок в душе достиг своего и моего рекордного апогея.