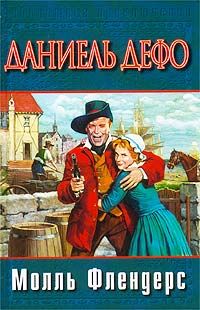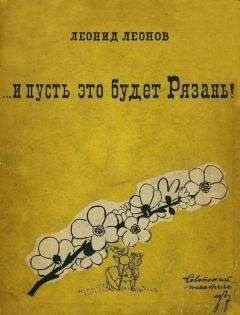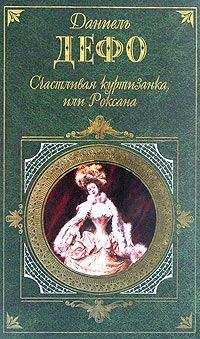Леонид Леонов - Вор
Векшин обернулся на внезапный шорох. У двери смутным пятном маячило чье-то лицо.
— Принесла? — спросил Векшин, но ему не ответили. — Кто там, дьявол? — резче повторил он, кожей ощущая из сумерек враждебный холодок.
— Это я, хозяин, — робко сказало пятно и сделало неуверенный шаг в направлении к Векшину,
XXIII
— Как напугал меня… чего ж ты, шальной, без спросу входишь?.. а может, я деньги делаю тут, впотьмах! — с облегченьем засмеялся Векшин, и, если бы не какая-то неуловимая тревога, его даже обрадовал бы Санькин приход.
— Потому и пришел, что вчистую замучился, хозяин! — пробормотал Санька вполголоса.
Огня не зажигали. Полыхнувшая молния осветила их, почти дружелюбно сидящих за столом. Векшин ковырял в зубах, слепительный в расстегнутой без ворота сорочке, Санька же, чуть привстав, как бы тянулся обеими руками к нему через стол. Первый трехступенчатый громовой раскат заглушил вступительные Санькины слова.
— Вот, принес, хозяин! — досказал он, и сразу ясно стало по его нетвердому срывающемуся голосу, что он слегка под хмельком.
Туча наползала, из окна веяло сырой, приятной после зноя, озлобляющей прохладкой.
— Не дело, пьяный на ночь глядя бродишь!.. чего ты мне там принес? — вместо привета насторожился Векшин.
Тогда Санька прорвался рассыпчатой деревянной скороговоркой, причем часто повторялся, верно из-за состояния своего, пускался в откровенности, делал странные паузы, словно какого-то опроверженья ждал, и до такой степени горячился, что Векшину порой приходилось зубы стискивать, чтобы не оборвать эту насильственную искренность.
— А вот десятку-то, что от тех пятидесяти осталась, помнишь? Вконец извелся, веришь ли… Это я на новую получку выпил, а ту я словно зеницу ока храню!
И чуть вспомню, что во всем мы были вместе и все я тебе в жизни без задумки отдавал, а эту вроде бы недодал, так и взмутит всего меня, так и вскинет как на дыбку. Тебо в тот раз и полагалось отказываться, да я-то не имел права у себя ее оставлять! И сколько ж я метался с ето, с той десяткой. В печку кинуть — не кидается, опять же жена с черным лицом на руки мне глядит… А я ей: «Молчи, кричу, обывательша, буржуйское отродье, не можешь ты соображать, какая сила в той десятке содержится. Весь я теперь наскрозь хозяинов: велит — снова в шухер кинусь, велит — на мокрое пойду…» А и верно, как выкинул я его в помойку, так разом ровно гору сняли с меня: спасибо Доне! Оно и жалковато: полгода растили, спитым чайком поливали, на дождики вытаскивали, а тут единым махом. Зато как сладко рушить, хозяин, лихо да весело… Мне теперь цельный мир запалить — не содрогнуся!
— Кого это ты выкинул? — помрачнел Векшин от одного упоминания Донькина имени.
— А фикус-то! — с легким смехом напомнил Санька. — Ничего у нас боле не осталось: ни фикуса, ни кикуса никакого… одна только дружба чистейшая твоя. Да ты бери ее, проклятую, бумажку-то, освободи, хозяин, а то руку жжет…
Здесь он принялся втискивать в обмякшую руку Векшина ту самую комканую, волглую от пота десятирублевку, и Векшин хоть не сразу, а взял, лишь бы отделаться, и примечательно, до такой степени не имел влеченья к деньгам, что немедленно позабыл, куда сунул полученные деньги, не придав никакого значения своей непростительной, как оказалось позже, оплошности. В ту минуту не без волнения подумал он о такой же вечной, несмотря ни на что, дружбе своей с Арташезом, в котором для него странным образом олицетворялись все его современники.
Несколько колечек Клавдиной музыки, опять прозвучавших за спиной, воротили Векппгаа к действительности.
— Ладно, возьму, если так тебе нужно для твоего спокойствия. Но имей в виду, не нравятся мне твои истеричные подергиванья, Александр, — не на шутку сердясь, предупредил Векшин. — Дождёшься, прогоню я тебя. Кстати, я и прежде замечал в тебе эту несвоевременную чувствительность, а иногда, извини, и прямую неустойчивость. Нетвердо, шатко ты на земле стоишь… от росту своего, что ли? Вот и теперь, серьезный будто, женатый человек, а весь ходуном ходишь, как порченый!
И у Саньки ничего не нашлось ответить на заслуженный упрек.
— Эх, попить бы чего… — только и сказал он и, нашарив на столе, наливал что-то в чашку, расплескивая на пол и колени, так тряслись у него руки. — А ведь ты дитя и чудак у меня, хозяин, всегда чудаком был, простодушным тоись… не замечаешь, что вокруг тебя творится. И такое у меня сейчас настроение, что даже поцеловал бы тебя, каб не такой заросший я был…
Впрочем, поднявшись, он потянулся было вроде как с объятьем через стол, но коснулся в потемках векшинской руки и отдернулся как от огня.
— Ну-ну, без лобзаний, пожалуйста… — поднял голос Векшин.
— Не кричи и прогнать меня не грозись, мы с тобой кровью паянные, так что и бежать мне от тебя некуда… так и тебе от меня! — Здесь Санька сделал затяжной глоток и с испугом понюхал из чашки. — Аи кто заболел? Никак, лекарством пахнет…
— Это мамочка капли пила, когда к Петру Горбидонычу за деньгами ходила, — раздался сзади ломкий детский голосок.
Оказалось, Клавдя сидела недалеко от стола, на детском стульчике, пристально вслушиваясь в беседу старших.
— Спать ложись, милая… — железным голосом произнес Векшин, и та послушно отправилась к своему диванчику в углу.
…Балуева вернулась еще сухая, с кульком покупок, суетливая и бесконечно виноватая. Едва успела закрыть окно, гроза ударила в стекла полными пригоршнями дождя. Частая молния, выхватывая кадры из темноты, сообщала людским движеньям отрывистость приторможенного кино, отчего непонятно было, что за тряпочку такую с поротыми нитками достал из кармана Санька и почему в продолжение двух смежных вспышек озиралась женщина, запустив руки под кружевную дорожку на комоде.
— Остатки денег прячешь? — холодно спросил Векшин, наблюдая ее через зеркало, — Я же приказал тебе…
Чуть приподнявшись со стула, он включил свет.
— Не брани меня, Митя, все у нас подобралось, суп заправить нечем… — заторопилась та. — Я не к тому, что голодные будем сидеть… Мне в театр вышивальщицей предлагают, я быстро научусь, я понятливая. Все тебе будет, пока не выздоровеешь!
— Молчала бы при посторонних, — оборвал Векшин, хотя, по всей видимости, Санька дремал с открытыми глазами, в такой неподвижности созерцал он складку на скатерти.
Натомившись наедине с собой, Векшин бессознательно боялся лишиться гостя. На столе появились зелень, хлеб и первая пока бутылка. Как ни грохотало за окном, все же на звон посуды своевременно подоспел Манюкин, а там и хозяйке пришлось принять участие в пиру… За все лето то была самая продолжительная из гроз. Почти непрерывные раскаты грома и гул водостоков настолько заглушали людскую речь, что сказанное на одном краю стола приходилось переспрашивать на другом.
— Пей, Александр, за нашу кровную связь, — глухо твердил Векшин, то и дело подливая товарищу. — Мы с тобой маленькие люди, делаем, что умеем… умрем, когда потребуется. Шалости да пощады у вчерашних друзей не просим. И ты за меня не бойся: я в свое время из ямы вынырну и тебя вытащу с собой!
И за тем же столом, полуобхватив плечо заглянувшего на огонек Манюкина, исповедовалась ему Балуева — с такою безудержной искренностью, что нет-нет да и скользнет слезинка в ее пропудренном улыбающемся лице.
— Ведь я когда хмельная, барин, то я враз хорошая становлюсь, веселая и разговорчивая, — признавалась она, закидывая голову и обнажая знаменитую, сводившую Чикилева с ума шею. — Вот ты барин родовой, а моя мать захудалой прачкой была… но я не из тех, я тобой ни капельки не брезгую. Я простая Зинка, пою песни про людское горе, про разлуку, про сердешную боль… пою, пока молода, а как застекленеет во мне душа, вернуся к материну корыту. Я быстро состареюсь, потому и жить тороплюсь! И тут запретили Зинке про горе петь, велят про счастье… а мне бы хоть издаля его повидать! Про горе-то я с одиннадцати годков пою, еще как нищий конфеткой меня сманил да под шарманку во дворах петь заставил… эва когда! И пела я, барин, слезами заливалася, и чистые люди во всех окошках навзрыд плакали, на меня, на рваную девчонку, глядючи. И не то чтобы сжилася с ним, с горем-то, а в самые очи ему смотрелася, через него и себя поняла… Горе правде учит, даже неумного!.. а счастье и в сказке никого не доводило до добра. Мать-покойница говаривала: у горя сто ушей, у счастья сто когтей — да все на ближнего. Горе последней крохой делится, счастье стеной зубчатой обороняется, вон оно как! А он меня отчитал, новый-то наш директор, как распутную по харе отхлестал… ровно в шейных кандалах от него ушла. Да ты сам хоть капельку уважаешь меня, барин? — и вглядывалась во внимательные манюкинские глаза.
— Герцогиня, муза, умница… восторженно внимаю вам, — патетически восклицал тот и так взмахивал свободной рукой, что выплескивалось из стакана в честь сказанного красное вино.