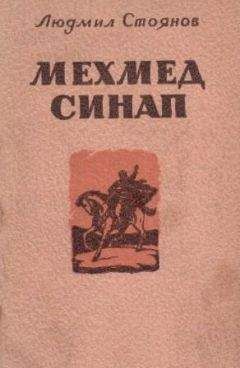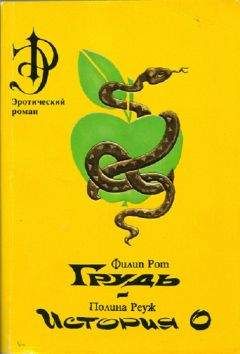Людмил Стоянов - Избранная проза
— Господи, что же это с моим мальчиком! — повторяла она. — За какие грехи ты меня так наказываешь?
Но вот доктора его выписали, и он вернулся домой.
Соседки-гречанки искренне любили мать и часто ее навещали, когда Борко лежал дома. Утешая ее, они говорили, что ничего плохого с ним не случится, что господь ее не оставит… Но сомнения, как бешеные псы, осаждали мать.
От нее скрывали страшное слово «чахотка», да еще «скоротечная». Она до самого конца не узнала, отчего умирает Борко. И мы, остальные дети, которые любили его до обожания, не смели в присутствии матери произнести это слово, потому что нам казалось — оно ее убьет. До последнего дня она робко надеялась на выздоровление Борко — не может умереть самый любимый, самый хороший ее сынок. Поэтому когда у него из горла хлынула кровь и он перестал дышать, она без сил приникла к нему, беззвучно заплакала и словно перестала различать все окружающее.
— Милый мой, ненаглядный Борко, сынок, проснись, неужели ты никогда не обнимешь свою маму! — Она поправляла сбившийся головной платок и продолжала причитать: — Ангелочек мой, как мы с ним жили душа в душу!
Она всхлипывала, стараясь удержать вопль, а слезы текли ручьями и падали на волосы усопшего. Закрыв лицо фартуком, она, обессилев, села на лавку.
Потом пришли гречанки с огромными букетами цветов. Обнимали мать и, наклонившись, целовали в лоб маленького покойника. Чужое сочувствие часто успокаивает, особенно если оно горячее и искреннее.
— Не плачь, соседка… просим тебя, успокойся, все от бога, ведь у тебя еще трое, ты богачка. Господь наградил тебя большим счастьем, а этот ангелочек вознесся на небо! Да и мы все разве вечно будем жить здесь, на земле?.. Божий промысел… Бог дал, бог и взял!
Они обнимали мать, целовали, и она как будто пришла в себя, замолчала. При взгляде на одну из молодых соседок она вспомнила, что та тоже недавно потеряла трехлетнюю дочку, и поглядела на нее с сочувствием.
На другой день за катафалком рядом о матерью шел отец. Хоть он и сгорбился, но все же был на голову выше тех немногих, кто провожал покойника. Смотрел прямо, стиснув зубы, на вид спокойный, но только на вид. Он тоже любил Борко и возлагал на него особые надежды. Да и кто его не любил, услужливого, кроткого, не по годам умного!
Только услышав зловещий стук комьев земли о крышку гроба, я понял, что никогда уже больше не увижу своего милого братца. Отец глубоко вздохнул, нахмурился, бросил свою горсть земли и тотчас же отвернулся. Я неудержимо плакал, он попробовал улыбнуться мне и сказал каким-то чужим голосом:
— Довольно, Милко… Пойдем… Эти тут (он показал глазами на могильщиков) закончат дело… Пойдем и ты, Бойка… Оставь мертвого с мертвецами, а мы, живые, пойдем к живым…
УЛИЦА БАХЧОВАНДЖИЙСКАЯНаша улица, покрытая неровной выбитой булыжной мостовой, круто поднимается в гору, а дом у нас — старая турецкая постройка из камня и толстых сосновых досок. Он двухэтажный, окна нижнего этажа, который служит подвалом и кладовой, забраны решетками, как и в соседних домах. Рядом живут греки и болгары, беженцы из Македонии, занимаются они огородничеством. Их огороды расположены в нижнем конце города, где воду для поливки можно отводить из реки. Недалеко от нас базарная площадь и церковь святого Мины, которую болгары отвоевали у греков.
Кран, находящийся напротив церкви, едва цедит воду, а кругом ждут с ведрами ученики ремесленников с базарной площади и женщины из нашего квартала.
Как самый большой в семье, я должен был по нескольку раз в день подниматься с ведром и кувшином по крутой каменистой улице к дому, где опоражнивал их в кадку возле крыльца. Добирался весь в поту, красный, и слышал, как отец всегда что-то бормочет. То называет городское начальство «красавцами», то ругает его по-турецки, чтобы я не понял.
— Церкви могут отнимать, а чтобы провести водопровод, на это их нет!
В селе в последнее время мать стирала возле колодца, чтобы не носить воды. Ее страх перед переездом в город как будто оправдывался: кругом все новые, чужие люди, как она с ними уживется?
Я продолжал таскать ведро и кувшин по нескольку раз в день. А зимой этот подъем по обледенелой улице был настоящим подвигом.
Как-то в сумерки, когда я возвращался домой по скользкой, покрытой льдом булыжной мостовой, чья-то рука подхватила мое ведро. Я испуганно обернулся и в тумане едва узнал дядю Вангела.
— Дядя Вангел! Откуда?
— Он самый, дядя Вангел. К вам шел… Как вы, здоровы?
— Здоровы, дядя. Сюда… сюда… Вот и наши ворота…
Мы вошли. Лампа в кухне уже была зажжена. Мать хлопотала около печки. Обернувшись, она стала вглядываться в вошедшего.
— Мама, я дядю Вангела привел, — сказал я весело.
Она сердечно пожала ему руку и показала на лавку, приглашая сесть.
— Что-то ты похудела, сестрица Бойка…
— Желчный пузырь проклятый… Никак не отпускает… Ох, болезни, болезни… А почему отец не пришел?
— Подойдет и он. Рука у него отчего-то распухла, я его по дороге в больнице оставил, пусть посмотрят…
— Ага! — сказала она сухо, как будто мало интересуясь и своим отцом, и его распухшей рукой.
А может быть, за этой сухостью крылись теплые, задушевные чувства?
— Милко, — обратилась ко мне затем мать, — поди встреть дедушку, на нашем доме нет номера, как бы старик не заблудился.
Я только этого и ждал. На улице, как призраки, мелькали в тумане редкие прохожие. Появлялись и исчезали. Мне показалось, что я стою уже долго, и я вернулся в дом:
— Нет его!
Дядя Вангел кротко возразил:
— Ничего, ничего. Придет. Погрейся и выйди опять.
Когда немного спустя я выглянул, туман был еще гуще. Какая-то заблудившаяся фигура остановилась и спросила:
— Не это Бахчованджийская улица?
Я узнал его по голосу. Дедушка Продан!
Мы вошли во двор. Поднялись по ступенькам.
Услышав шаги, мать отворила дверь из кухни и вышла в сени. Свет из отворенной двери падал на дедушку. А мать глядела на него, как будто сомневаясь, он ли это. И здесь она проявила ту же сдержанность, как и при встрече с дядей Вангелом.
— Ты, отец? — тихо сказала она, потом схватила его руку и поцеловала ее. Он в свою очередь прикоснулся щекой к щеке матери. Она усадила его на скамейку.
Дедушка снова оглядел ее, улыбнулся и сказал хриплым голосом:
— Смотри-ка! Ты, Бойка, хорошо выглядишь. Немножко похудела, но это не беда! Мы — жители гор, наш корень крепкий. Мы нелегко поддаемся курносой. Как дети? Здоровы?
Но он тотчас же пожалел, что задал этот вопрос, напомнивший о покойном Борко, и виновато закашлял.
— Отец, отец, ведь самый мой хороший ушел! Ушел, и я его больше никогда не увижу, — сказала мать и расплакалась.
Дедушка Продан ничего не ответил. Отвернувшись, он достал кисет с табаком и дрожащими пальцами начал крутить цигарку.
Мать перестала плакать, когда двое младших — Владко и Асенчо — один за другим пробрались в кухню и с любопытством уставились на гостей. Оба родились в Болгарии и только по слухам знали о нашем родном селе. Особенно их заинтересовал кожаный пояс дяди Вангела, за который был заткнут кинжал в черных костяных ножнах и кисет с табаком, кремнем и огнивом.
Какими они мне казались смешными и глупыми! Ну что они нашли интересного в этом поясе!
Дедушка Продан посадил одного мальчика на одно колено, другого на другое и начал их покачивать. Вместе с тем, избочившись, он засунул руку глубоко в задний карман шаровар и достал оттуда несколько мелких монет.
— На, это тебе, а это тебе! Купите себе халвы, бузы, — и он сунул им в руки деньги.
Тут заскрипело дощатое крыльцо, и вошел отец. Губы его раздвинулись в широкой улыбке.
— О-о-о-о! Добро пожаловать, добро пожаловать! — поздоровался он, одновременно глядя на детей. — Только ведь детям деньги давать не годится, дедушка Продан, а? Разбалуются…
Асенчо соскочил с дедушкиных колен и тотчас убежал, чтобы у него не отняли монеты. Владко с виноватым видом держал деньги в руке, ожидая, что отец прикажет вернуть их дедушке. Но отец мягко сказал:
— Ну, ладно, раз уж это вам дедушка дал, так и быть, возьмите!
Это была встреча мужчин — людей, которые знают, насколько трудна жизнь, знают, какая нужна крепкая спина и сильные руки, чтобы отражать все неожиданные удары!
— Ну, Бойка, давай угощать гостей! — громко воскликнул отец.
Мать, хотя была медлительна и непроворна, быстро собрала на стол. Мы расселись как попало в тесной кухне, потому что только тут было тепло. Отец грел руки около печки, потом обернулся к гостям:
— Ну, выкладывайте, что у вас нового?