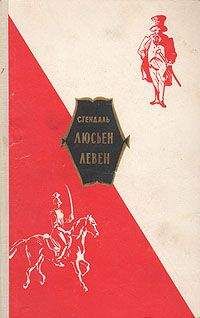Стендаль - Красное и черное
«Если человек уступает какой-то своей слабости, — говорила она себе, — то такая девушка, как я, может дозволить себе поступиться своей добродетелью только ради действительно достойного человека. Никто никогда не скажет про меня, что я прельстилась красивыми усиками или умением ловко сидеть в седле. Нет, меня пленили его глубокие рассуждения о будущем, которое ожидает Францию, его мысли о грядущих событиях, которые могут оказаться сходными с революцией тысяча шестьсот восемьдесят восьмого года в Англии. Да, я прельстилась, — отвечала она своим угрызениям, — да, я слабая женщина, но, по крайней мере, мне хоть не вскружили голову, как какой-нибудь безмозглой кукле, просто внешние качества! Его лицо отражает высокую душу, этим-то оно и пленило меня.
Если произойдет революция, то почему бы Жюльену Сорелю не сыграть в ней роль Ролана, а мне — госпожи Ролан? Эта роль мне нравится больше, чем роль госпожи де Сталь: безнравственное поведение в наше время было бы большим препятствием. Ну уж меня-то наверняка нельзя будет еще раз упрекнуть в слабости, — я бы умерла со стыда».
Надо признаться, впрочем, что не всегда рассуждения Матильды были так уж серьезны, как мысли, которые мы только что привели.
Она иной раз украдкой смотрела на Жюльена и в каждом его движении находила неизъяснимую прелесть.
«Теперь можно не сомневаться, — говорила она себе, — я своего добилась; у него, конечно, и в мыслях нет, что он может иметь какие-то права на меня.
Какой несчастный вид был у бедного мальчика, когда он с таким глубоким чувством сделал мне это признание в любви, в саду, неделю тому назад! Это ли не доказательство? И надо сознаться, с моей стороны было в высшей степени странно сердиться на него за эти слова, в которых было столько глубокого уважения, столько чувства. Разве я не жена его? Ведь так естественно, что он это сказал, и, признаться, он был очень мил. Жюльен продолжал любить меня даже после этих бесконечных разговоров, когда я изо дня в день и, по правде сказать, так безжалостно рассказывала ему обо всех моих минутных увлечениях этими великосветскими юношами, к которым он так меня ревнует! А ведь у меня это было просто от нестерпимой скуки, среди которой мне приходится жить. Ах, если бы он только знал, сколь мало они для него опасны! Какими бесцветными они мне кажутся по сравнению с ним; и все совершенно одинаковы, точно списаны друг с друга».
Углубившись в эти размышления и делая вид, что она очень занята, — чтобы не вступать в разговор с матерью, которая на нее смотрела, — Матильда рассеянно чертила карандашом в своем альбоме. Один из профилей, который она только что набросала, изумил и обрадовал ее: он был поразительно похож на Жюльена. «Это глас провидения! Вот истинное чудо любви! — в восторге воскликнула она. — Я, совершенно не думая об этом, нарисовала его портрет».
Она бросилась к себе в комнату, заперлась на ключ, взяла краски и принялась усердно писать портрет Жюльена. Но у нее ничего не получалось; профиль, который она набросала случайно, все-таки имел наибольшее сходство. Матильда пришла в восхищение; она увидела в этом неоспоримое доказательство великой страсти.
Она оставила свой альбом, когда уже совсем стемнело и маркиза прислала за ней, чтобы ехать в Итальянскую оперу. Матильда думала только об одном: хорошо бы увидать Жюльена. Тогда можно будет уговорить мать, чтобы она пригласила и его ехать с ними.
Но Жюльен не появился, и в ложе наших дам оказались только самые заурядные личности. Во время первого акта Матильда ни на минуту не переставала мечтать о своем возлюбленном с увлечением и страстью. Но во втором акте одна любовная ария — мелодия эта поистине была достойна Чимарозы{80} — поразила ее в самое сердце. Героиня оперы пела: «Я наказать себя должна, я наказать себя должна за то, что так люблю!..»
С той минуты как Матильда услыхала эту восхитительную арию, все в мире исчезло для нее. С ней разговаривали — она не отвечала; мать делала ей замечания, но она с трудом могла заставить себя взглянуть на нее. Она была в каком-то экстазе, все чувства ее были до такой степени возбуждены, что это можно было сравнить только с теми исступленными приступами страсти, которые в течение последних дней одолевали Жюльена. Полная божественной грации, мелодия, на которую были положены эти слова, удивительно совпадавшие с тем, что она переживала сама, так захватила ее, что в те минуты, когда она не думала о самом Жюльене, она вся была поглощена ею. Благодаря своей любви к музыке она в этот вечер стала такой, какой всегда бывала г-жа де Реналь, когда думала о Жюльене. Рассудочная любовь, конечно, гораздо разумнее любви истинной, но у нее бывают только редкие минуты самозабвения; она слишком хорошо понимает себя, беспрестанно разбирается в себе, она не только не позволяет блуждать мыслям — она и возникает не иначе, как при помощи мысли.
Вернувшись домой, Матильда, не слушая никаких уговоров г-жи де Ла-Моль, заявила, что ей нездоровится, и до поздней ночи просидела у себя за роялем, наигрывая эту мелодию. Она без конца напевала знаменитую кантилену, которая ее так пленила:
Devo punirmi, devo punirmi,
Se troppo amai, etc.
Безумие, охватившее ее в эту ночь, перешло у нее в конце концов в твердую уверенность, что она сумела преодолеть свою любовь.
Эта страничка может повредить злосчастному автору больше всех других. Найдутся ледяные души, которые будут обвинять его в непристойности. Но он вовсе не собирается обижать юных особ, блистающих в парижских гостиных, и не допускает мысли, что среди них найдется хотя бы одна, способная на такие безумства, принижающие образ Матильды. Героиня моего романа есть плод чистейшей фантазии и даже более того, — она создана фантазией вне всяких социальных устоев, которые, безусловно, позволят занять цивилизации XIX века столь выдающееся место в ряду всех прочих столетий.
В чем, в чем, но уж никак не в недостатке благоразумия можно упрекнуть юных девиц, составляющих украшение балов нынешней зимы.
Не думаю также, что их можно было бы обвинить в излишнем пренебрежении к богатству, к выездам, к прекрасным поместьям и ко всему, что обеспечивает приятное положение в свете. Все эти преимущества отнюдь не нагоняют на них скуки, напротив, они неизменно являются для них предметом постоянных вожделений, и если сердца их способны загораться страстью, то только к этому единственному предмету.
И отнюдь не любовь берет под свое покровительство и ведет к успеху молодых людей, одаренных, подобно Жюльену, кое-какими способностями; они прилепляются накрепко, нерасторжимой хваткой к какой-нибудь клике, и когда этой клике везет, все блага общественные сыплются на них в изобилии. Горе ученому, не принадлежащему ни к какой клике, — любой, самый ничтожный, едва заметный его успех навлечет на него нападки, и высокая добродетель будет торжествовать, обворовывая его. Эх, сударь мой! Роман — это зеркало, с которым идешь по большой дороге. То оно отражает лазурь небосвода, то грязные лужи и ухабы. Идет человек, взвалив на себя это зеркало, а вы этого человека обвиняете в безнравственности! Его зеркало отражает грязь, а вы обвиняете зеркало! Обвиняйте уж скорее большую дорогу с ее лужами, а еще того лучше — дорожного смотрителя, который допускает, чтобы на дороге стояли лужи и скапливалась грязь.
Теперь, когда мы твердо установили, что характер Матильды совершенно немыслим в наш столь же благоразумный, сколь и добродетельный век, я уже не так буду бояться прогневить читателя, продолжая свой рассказ о безрассудствах этой прелестной девушки.
На следующий день она всячески искала случая, который позволил бы ей убедиться в том, что она действительно одержала победу над своей безумной страстью. Самое же главное заключалось в том, чтобы все делать наперекор Жюльену; но при этом она ни на минуту не переставала следить за каждым его движением.
Жюльен был слишком несчастен, а главное, слишком потрясен, чтобы разгадать столь сложный любовный маневр; и еще менее того он был способен усмотреть в нем что-либо благоприятное для себя; он оказался просто-напросто жертвой. Никогда еще он не доходил до такого отчаяния; его поведение до такой степени не согласовалось с голосом рассудка, что если бы какой-нибудь умудренный горем философ сказал ему: «Торопитесь воспользоваться обстоятельствами, которые складываются для вас благоприятно: при этой рассудочной любви, которую мы встречаем в Париже, одно и то же настроение не может продлиться более двух дней», — он бы его не понял. Но в каком бы умоисступлении он ни находился, он не способен был изменить долгу чести. Честь обязывала его молчать, он это понимал. Попросить совета, рассказать о своих мучениях первому попавшемуся человеку было бы для него великим счастьем, подобным тому, какое испытывает несчастный путник, когда он посреди раскаленного зноя пустыни чувствует каплю прохладной влаги, упавшую с неба. Он сознавал эту опасность; он боялся, что случись кому-нибудь неосторожно обратиться к нему с расспросами, он сейчас же разразится потоком слез; он заперся у себя в комнате.