Гюстав Флобер - Воспитание чувств
Об аукционе она узнала от самого же Фредерика. Утешившись, она вздумала воспользоваться распродажей. Она приехала в белом атласном жилете с перламутровыми пуговицами, в платье с оборками, в узких перчатках. Вид у нее был победоносный.
Он побледнел от гнева. Розанетта взглянула на женщину, с которой он был.
Г-жа Дамбрёз узнала ее, и с минуту они пристально с головы до ног осматривали друг друга, стараясь подметить какой-нибудь недостаток, изъян, — одна, вероятно, завидовала молодости другой, а та была раздосадована исключительной изысканностью, аристократической простотой соперницы.
Наконец г-жа Дамбрёз отвернулась с невыразимо надменной улыбкой.
Аукционист открыл теперь рояль — ее рояль! Стоя, он правой рукой проиграл гамму и объявил цену инструмента: тысяча двести франков, потом спустил до тысячи, до восьмисот, до семисот.
Г-жа Дамбрёз игривым тоном издевалась над этой «посудиной».
Перед старьевщиками поставили шкатулочку с серебряными медальонами, уголками и застежками, ту самую, которую он увидел, когда в первый раз обедал на улице Шуазёль, и которая находилась затем у Розанетты и снова вернулась к г-же Арну; часто во время их бесед глаза его встречали эту шкатулку. Она была связана для него с самыми дорогими воспоминаниями, и он умилялся душой, как вдруг г-жа Дамбрёз сказала:
— А! Это я куплю.
— Но вещь неинтересная, — возразил он.
Она же, напротив, находила ее очень хорошенькой; аукционист превозносил ее изящество:
— Вещица во вкусе Возрождения! Восемьсот франков, господа! Почти вся серебряная! Потереть мелом — заблестит!
Она стала пробираться в толпе.
— Что за странная мысль! — сказал Фредерик.
— Вам неприятно?
— Нет. Но на что может вам понадобиться такая безделушка?
— Как знать? Пригодится, может быть, чтобы хранить любовные письма.
Взгляд, который она бросила, пояснил ее намек.
— Тем более не следует обнажать тайны умерших.
— Я не считала ее окончательно умершей. — И она отчетливо прибавила:
— Восемьсот восемьдесят франков!
— Как это нехорошо с вашей стороны, — прошептал Фредерик.
Она смеялась.
— Дорогая, это ведь первая милость, о которой я вас прошу.
— А знаете что? Ведь вы будете очень нелюбезным мужем.
Кто-то набавил цену; она подняла руку:
— Девятьсот!
— Девятьсот! — повторил мэтр Бертельмо.
— Девятьсот десять… пятнадцать… двадцать… тридцать, — взвизгивал аукционист, взглядом окидывая присутствующих и покачивая головой.
— Теперь говорите, что моя жена благоразумна, — сказал Фредерик.
Он медленно повел ее к выходу.
Оценщик продолжал:
— Ну, что же, ну как же, господа? Девятьсот тридцать! Кто покупает за девятьсот тридцать?
Г-жа Дамбрёз, успевшая дойти до двери, остановилась и громко сказала:
— Тысяча франков!
Публика встрепенулась, наступило молчание.
— Тысяча франков, господа, тысяча франков! Больше нет желающих? Наверно? Тысяча франков! За вами!
Молоточек из слоновой кости опустился.
Она передала свою карточку, ей принесли шкатулку. Она сунула ее в муфту.
У Фредерика на сердце похолодело.
Г-жа Дамбрёз все время держала его под руку и решилась посмотреть ему в лицо только на улице, где ее ждала карета.
Она кинулась в экипаж, точно вор, спасающийся бегством, и, уже усевшись, обернулась к Фредерику. Он стоял со шляпой в руке.
— Вы не поедете?
— Нет, сударыня!
И, холодно поклонившись, он захлопнул дверцу; потом велел кучеру трогать.
В первый миг он ощутил радость, почувствовав себя снова свободным. Он был горд, что отомстил за г-жу Арну, ради нее пожертвовав богатством; потом он стал удивляться своему поступку, и бесконечная усталость овладела им.
На другое утро слуга сообщил ему новости: было объявлено военное положение, законодательное собрание распущено, часть народных представителей находилась в тюрьме Мазас. К общественным делам Фредерик остался равнодушен, настолько он был поглощен своими собственными.
Он написал поставщикам, отменил заказы, сделанные в связи с предстоявшей женитьбой, которая теперь представлялась ему не вполне благовидной сделкой. Г-жа Дамбрёз внушала ему отвращение, ибо из-за нее он чуть было не совершил подлость. Он забыл о Капитанше, даже не беспокоился о г-же Арну и был занят мыслью только о себе, о себе одном, блуждая среди обломков своих мечтаний, больной, измученный, павший духом. И, возненавидев полную фальши среду, где он так много выстрадал, Фредерик стал мечтать о зеленой траве, о тишине провинции, о дремотной жизни под сенью родного крова, среди бесхитростных сердец. Наконец в среду вечером он вышел из дому.
Народ толпился на бульваре, собираясь в кучки. Время от времени проходил патруль и рассеивал их; но они тотчас же возникали снова. Говорили без всякого стеснения, войска провожали насмешками и руганью, но и только.
— Как! Драться разве не будут? — спросил Фредерик одного из рабочих.
Блузник ему ответил:
— Не такие уж дураки, чтобы умирать ради буржуа! Пусть сами устраиваются!
А какой-то господин, покосившись на этого жителя предместья, проворчал:
— Сволочи социалисты! Хоть бы теперь удалось прикончить их!
Фредерик не понимал, откуда столько ненависти, столько глупости. Его отвращение к Парижу еще усилилось, и через день он первым утренним поездом уехал в Ножан.
Дома скоро исчезли, начались поля, простор. Сидя один в купе вагона и положив ноги на противоположный диванчик, он размышлял о событиях последних дней, о своем прошлом. Ему вспомнилась Луиза.
«Вот она любила меня! Напрасно я отверг свое счастье. Ну, да что! Забудем про это!»
Минут через пять он говорил себе:
«А впрочем, как знать?.. Со временем — почему бы и нет?»
Его мечты, так же как и его взгляды, уносились в смутную даль.
«Она наивная, совсем крестьяночка, почти дикарка, но такая хорошая!»
Чем ближе подъезжал он к Ножану, тем ближе становилась она ему. Когда показались сурденские луга, ему вспомнилось, как она в былые дни ломала камыш, бродя вдоль заводей. Приехали. Он вышел из вагона.
Он остановился на мосту, облокотился на перила, чтобы посмотреть на остров и сад, где однажды они гуляли в солнечный день; и, еще не успев прийти в себя после путешествия, ошеломленный свежестью воздуха, все еще не оправившись от недавних тревог, которые надломили его силы, он почувствовал какое-то возбуждение и подумал:
«Может быть, ее нет дома? Не встречу ли я ее?»
У св. Лаврентия звонили в колокол, а на площади перед церковью собрались нищие и стояла коляска, единственная в тех краях (ее нанимали для свадеб). Вдруг под порталом, окруженные толпой обывателей в белых галстуках, появились новобрачные.
Фредерик решил, что ему почудилось. Да нет! Это ведь она, Луиза — в белой фате, покрывающей ее рыжие волосы и спускающейся до пят. И ведь это он, Делорье! — в синем фраке с серебряным шитьем, в форме префекта. Как же так?
Фредерик скрылся за угол дома, чтобы пропустить свадебный кортеж.
Пристыженный, побежденный, разбитый, он вернулся на вокзал и поехал назад в Париж.
Кучер, нанятый им, уверял, что от площади Шато-д'О до театра «Жимназ» всюду баррикады, и повез его через предместье Сен-Мартен. На углу улицы Прованс Фредерик отпустил фиакр и пешком направился к бульварам.
Было пять часов, моросил мелкий дождь. На тротуаре, по направлению к Опере, толпились буржуа. На противоположной стороне все подъезды были заперты. В окнах — никого. По бульвару, во всю его ширину, пригнувшись к шеям лошадей, карьером неслись драгуны с саблями наголо, а султаны их касок и широкие белые плащи развевались по ветру, мелькая в лучах газовых фонарей, раскачивавшихся среди тумана. Толпа глядела, безмолвная, испуганная.
В промежутках между кавалерийскими наездами появлялись отряды полицейских, оттеснявшие толпу в соседние улицы.
Но на ступеньках кафе Тортони продолжал стоять неподвижный, как кариатида, высокий человек, которого уже издали было видно, — Дюссардье.
Один из полицейских, шедший впереди, в треуголке, надвинутой на глаза, пригрозил ему шпагой.
Тогда Дюссардье, сделав шаг вперед, закричал:
— Да здравствует республика!
Он упал навзничь, раскинув руки.
Рев ужаса пронесся по толпе. Полицейский оглянулся, обвел всех глазами, и ошеломленный Фредерик узнал Сенекаля.
VI
Он отправился в путешествие.
Он изведал тоску пароходов, утренний холод после ночлега в палатке, забывался, глядя на пейзажи и руины, узнал горечь мимолетной дружбы.
Он вернулся.
Он выезжал в свет и пережил еще не один роман. Но неотступное воспоминание о первой любви обесцвечивало новую любовь; да и острота страсти, вся прелесть чувства была утрачена. Гордые стремления ума тоже заглохли. Годы шли, и он мирился с этой праздностью мысли, косностью сердца.

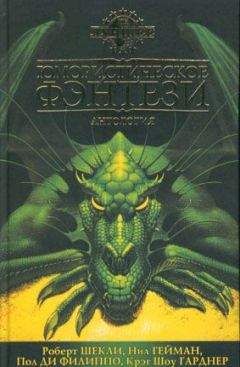
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28259/28259.jpg)
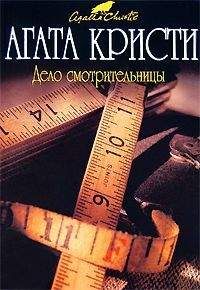
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28288/28288.jpg)