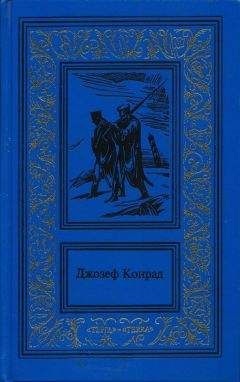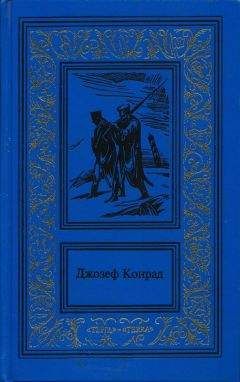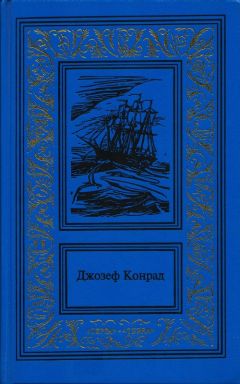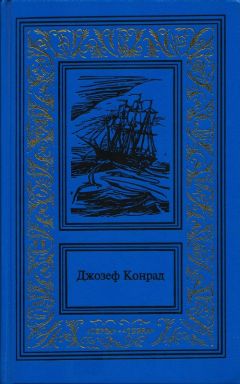Джозеф Конрад - Ностромо
— Я уверен, что Сотильо, захватив серебро, тотчас повернул бы назад, чтобы найти убежище в каком-нибудь тихом порту за границей. Это был бы ужасный ущерб, но для нашей экономики еще более убыточно, что серебро затонуло. Выгодней всего, конечно, было бы спрятать его в каком-нибудь безопасном месте, а часть сокровища употребить на то, чтобы подкупить Сотильо. Но я не уверен, что дон Карлос когда-нибудь решился бы на это. Он не приспособлен к костагуанским обычаям, капатас, и тут уже ничего не поделаешь.
Стоило доктору упомянуть дона Карлоса, и буря гнева снова поднялась в груди капатаса, но ему удалось овладеть собой. Он превратился как бы в другого человека — говорил задумчиво, негромким ровным голосом:
— И что, дон Карлос был бы доволен, если бы я отдал Сотильо серебро?
— Полагаю, что не только он, — ответил доктор мрачно. — Со мной ведь никогда не советуются. Все это затеял Декуд. Думаю, сейчас у них глаза уже открылись. Что до меня, то, если бы какой-нибудь волшебник выбросил на берег это серебро, я бы тотчас отдал его Сотильо. И все одобрили бы мой поступок, насколько я могу судить.
— Волшебник выбросил на берег… — вполголоса повторил Ностромо, затем добавил громко: — Тут не то что волшебник, сеньор, тут и святой не поможет.
— Охотно верю, капатас, — сухо согласился доктор. — Сотильо, — продолжал доктор Монигэм, — еще не развернулся, он еще им себя покажет.
Ностромо слушал его, как во сне, и думал: от меня сейчас не больше толку, чем от этого трупа, который, смутно вырисовываясь во мгле, висит на балке и как будто тоже прислушивается — заброшенный, забытый, ужасный символ человека, не нужного никому.
— Взбрело им на ум и, нисколько со мной не считаясь, отправили меня в море с этим серебром, — вдруг перебил он Монигэма. — Что же они мной совсем не дорожат, por Dios? Видно, им даже голову не хочется утруждать, вашим джентльменам, hombres finos, пока под рукой есть простой человек, всегда готовый рискнуть своей душой и телом? Или, может, у простых людей нет души, как у собаки?
— С вами ведь поехал Декуд, а все делалось по его плану, — напомнил доктор.
— Sí. И богач из Сан-Франциско — он ведь тоже как-то связан с серебром… Уж не знаю как. Нет, я не хочу ничего больше слышать! Похоже, богатым все разрешено.
— Я вас понимаю, капатас, — начал доктор.
— Капатас, что капатас? — Голос Ностромо звучал ровно, но в нем чувствовался гнев. — С капатасом покончили, угробили капатаса. Нет его больше. Поняли вы? Не видать вам больше капатаса.
— Ну, это уже ребячество, — с укором сказал доктор, и Ностромо внезапно утих.
— Я и в самом деле вел себя как ребенок, — пробормотал он.
Взгляд его снова наткнулся на темный силуэт мертвеца, застывший в жуткой неподвижности, словно он замер, прислушиваясь, и Ностромо тихим голосом проговорил:
— Почему Сотильо вздернул этого несчастного на дыбу? Можете вы объяснить мне? Ведь беднягу хуже всякой пытки мучил страх. Почему его убили — это понятно. Он так корчился, что жутко было смотреть. Но пытали-то его зачем? Он ведь им все рассказал и добавить не мог ни слова.
— Верно; рассказал он все, что знал. Любой разумный человек не усомнился бы в этом. Но видите ли, в чем дело, капатас, Сотильо не поверил его словам. Вернее, поверил, но не всему.
— Чему же он мог не поверить? Я не понимаю.
— Зато я прекрасно понимаю — я за ним наблюдал. Он не верит, что сокровище погибло.
— Что? — встревоженно воскликнул капатас.
— Почему вы так испугались?
— Надо ли понять вас так, сеньор, — продолжал Ностромо, осторожно и тщательно подбирая слова, — что Сотильо считает, будто сокровище каким-то образом удалось спасти?
— Нет, конечно! Как это могло быть? — с горячностью воскликнул доктор. Ностромо усмехнулся в темноте. — Спасти его не могли. Но Сотильо считает, что, когда баркас тонул, на нем не было серебра. Он убедил себя, что здесь устроили спектакль с целью обмануть Гамачо и его национальных гвардейцев, Педрито, сеньора Фуэнтеса, нашего нового политического лидера, а также самого Сотильо. Только он, — сказал полковник, — не так глуп.
— Очень даже глуп. В этой мерзкой стране из всех полковников он самый тупоумный, — проворчал Ностромо.
— Он рассуждает ничуть не хуже, чем многие из здравомыслящих людей, — возразил доктор. — Он убедил себя, что сокровище не погибло, потому что страстно хочет им завладеть. Кроме того, он боится, что его офицеры взбунтуются и переметнутся к Педрито; в равной степени он опасается довериться Педрито и выступить против него. Вы поняли, капатас? Покуда у его офицеров есть надежда, что Сотильо каким-то образом сумеет заполучить это огромное богатство, они его не покинут. Я взял на себя труд поддерживать эту надежду.
— Поддерживать! — настороженно повторил капатас. — Это очень интересно. И долго вы собираетесь водить их за нос?
— Сколько смогу.
— Как вас понять?
— На этот вопрос я отвечу вам точно. До тех пор, пока я жив, — решительно произнес доктор. Затем он вкратце описал историю своего ареста и обстоятельства, при которых был освобожден. — Я возвращался к этому тупице и мерзавцу, когда мы встретились, — закончил он.
Ностромо слушал его очень внимательно.
— Стало быть, вы выбрали быструю смерть, — процедил он сквозь зубы.
— Может быть, и так, великий капатас, — с раздражением ответил доктор. — Вы здесь не единственный, кто способен смотреть смерти прямо в глаза.
— Оно конечно, — проворчал Ностромо, несколько повысив голос. — Кто знает, может быть, здесь сейчас не двое дураков, а даже больше.
— Я ввязался в это дело, и я отвечаю за него, — холодно сказал доктор.
— Точно так же, как я ввязался в дурацкую историю с серебром, — огрызнулся Ностромо. — Все ясно. Bueno. У меня были свои причины, у вас — свои. Но вы были последним человеком, с которым я разговаривал перед отъездом, и мне показалось, что вы считаете меня дураком.
Насмешливое отношение доктора к блистательной славе Ностромо чрезвычайно раздражало моряка. В похвалах Декуда тоже звучала ироническая нотка, смущавшая его; но ему льстили приятельские отношения с таким человеком, как дон Мартин, а этот доктор Монигэм просто никто. Ностромо помнил его нищим отщепенцем, который, крадучись, бродил по улицам Сулако и не имел ни друзей, ни знакомых, пока дон Карлос Гулд не взял его к себе на рудники.
— Вы, конечно, очень умный, — задумчиво продолжал он, с тревожным чувством вглядываясь в темную мглу комнаты, где был замучен Гирш. — Но теперь и я поумнел. Одну вещь я усвоил твердо: вы — опасный человек.
Доктор Монигэм, опешив, лишь испуганно спросил:
— О чем это вы?
— Если бы он мог заговорить, он сказал бы, что я прав, — продолжал Ностромо, и тень его головы качнулась на звездном квадрате окна.
— Я вас не понимаю, — слабым голосом сказал доктор Монигэм.
— Не понимаете? Да ну? Если бы вы не подтвердили идиотские бредни Сотильо, ему незачем было бы так спешить вздергивать на дыбу этого беднягу Гирша.
Доктор вздрогнул. Но преданность, поглотившая его целиком, поглотила и все его чувства, и его сердце стало словно камень и не знало ни укоров совести, ни жалости. Все же, чтобы окончательно успокоить себя, он счел нужным громко и презрительно отринуть это обвинение.
— Чушь! Не забывайте, я имел дело с Сотильо. О Гирше я и не подумал, признаюсь. Но если бы подумал, это не принесло бы ему пользы. Ведь ясно: он был обречен с того злосчастного момента, когда вцепился в этот якорь. Обречен, вы слышите меня! Да я и сам обречен… по всей вероятности.
Так ответил доктор на упрек Ностромо, достаточно веский для того, чтобы разбередить его совесть. Доктор не был бессердечен. Но миссия, которую он на себя взял, была так значительна, так важна, так серьезна, что затмевала все простые житейские соображения. Он стал фанатиком. Ему совсем не нравилось то, что он собирался сделать. Ему противно было обманывать, дурачить даже самых скверных людей. Все в нем возмущалось против этого — воспитание, традиции, инстинкт. Роль предателя, несовместимая с его натурой, была ему невыносима. И все-таки он согласился принести себя в жертву, пойти на это унижение.
С горечью он убеждал себя: «Кроме меня, для этой грязной работы никто не годится». И верил этому. Он был прост. И в простоте своей не считал себя героем, отважно жертвующим жизнью; он знал одно: что подвергается большой опасности, и эта мысль поддерживала и утешала его. Все было жестоко в мире, в котором он существовал, и участь Гирша не являлась исключением. Он практически смотрел на этот эпизод. Что мог он значить? Не заподозрил ли чего-нибудь Сотильо? Доктор никак не мог понять, зачем понадобилось убивать беднягу Гирша?
— Так-то так. Но почему его все-таки застрелили? — пробормотал он.