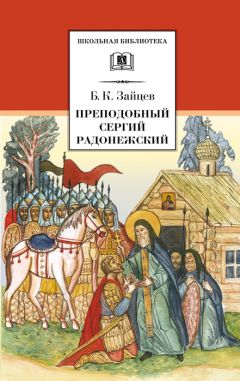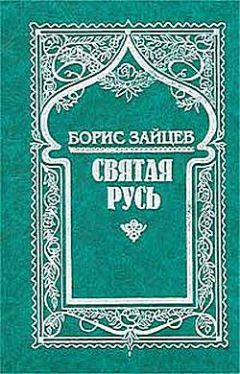Борис Зайцев - Рассказы
«Искушение» появилось в сборнике «Знания». Затем отдельным изданием, в «Знании» же. Солнце вставало совершенно как раньше. И в государстве российском никаких событий не произошло. Гонорар заплатили хороший — читатели же, как и прежде, находили, что «Искушение св. Антония» вещь… ну, скажем, тяжеловесная. Знавшие переводчика лично, опасались задевать при нем Флобера.
На смену «Знанию» вырос «Шиповник» (создатель его 3. И. Гржебин, покоится сейчас на здешнем кладбище). В одном из сборников «Шиповника» появилось в моем же переводе «Простое /сердце» (там есть ошибка, до которой никому нет дела, и сами эти сборники разлетелись дымом по лицу Совдепии: меня же она и сейчас жалит). Друзья мои шиповники, Гржебин и Копельман, приезжая из Петербурга ко мне в Москву и у меня останавливаясь, много наслышались о Флобере. И задумали издать собрание его сочинений по-русски.
Когда Флобер умер, Тургенев, большой его почитатель и ценитель, опубликовал в России призыв подписываться на памятник Флоберу — первая попытка международной дружественности в литературе.
К стыду России она провалилась. Русские не доросли до общеевропейского чувства прекрасного. На призыв лучшего своего писателя не только не откликнулись — засыпали его насмешками (и оскорблениями!) за самую мысль о солидарности. Какой-то там Флобер! Собирать на Флобера! Тургенев получал ругательные письма.
Пишешь об этом с горечью — и за Россию, за Тургенева, и за Флобера. Но с чувством отдыха вспоминаешь, что все-таки хоть через тридцать лет, некий реванш Флобер в России взял.
Огромные томы собрания сочинений выходили со статьями, примечаниями, вариантами. «Госпожу Бовари» перевела Чеботаревская под ред. Вячеслава Иванова, «Саламбо» — Минский, «Искушение» — мое, «Сентиментальное» — В. Муромцевой под ред. Бунина, «Письмами» занимался Блок, для «Трех новелл» взяли переводы Тургенева и мой. Издание не закончилось (не хватало, кажется, «Бувара и Пекюше»), помешала война и революция. Все-таки и то, что вышло, давало уже Флобера в подобающем виде. Издание это было некоммерческим: Флобер никогда никому прибылей не давал и сам умер в бедности. Тем более надо помянуть добрым словом почин «Шиповника».
Где сейчас эти отлично изданные книги? Кто их читает?
Пожелаем, чтобы для России Будущего стал Флобер «Вечным спутником» — прекрасным и нужным обликом Запада.
ГОГОЛЬ НА ПРЕЧИСТЕНСКОМ
Пречистенский бульвар связан с чем-то повышенным, неопределенно-романтическим. Романтика начинается уже с Никитского бульвара, с дома Талызина, где жил и умер Гоголь. Это область купола Христа Спасителя: здесь всегда он плывет в небе над идущим — как золотистый корабль. И чем ближе к нему, тем сильней ощущение легкости, над-земности. За Арбатской площадью, на Пречистенском, гений местности самое слово: Пречистая. Бульвар ведь, действительно чище и тише, и благообразней других. Александровское училище, церковка, контора Уделов (где столько живал Тургенев), дом Рябушинского — и зеленый откос к бульвару. Зеленый и опрятный бульвар: дети с няньками, студент на лавочке с книжкой, розовый закат сквозь наливающиеся почки лип. Летом прохладно от густой листвы. Ранней весной первый обтаивает откос, глядящий на юг, и первая зазеленеет на нем травка. Вообще же, вспоминая милое это место, всегда ощущаешь свет и облегчение.
Гоголь любил Пречистенский бульвар. В нем самом не было светлого, но стремление к красоте — Рима ли, Италии, наших золотых куполов — всегда жило. И то, что прославить писателя Москва решила на Пречистенском, не удивляет. В 1909 г. исполнилось столетие со дня рождения его. На Тверском бульваре Пушкин уже входил в пейзаж, задумчиво поглядывая со Страстного на площадь с трамваями. Очередь дошла до Гоголя. Времена были мирные, денег достаточно. Памятник заказали скульптору Андрееву, Николаю Андреевичу, и разослали приглашение на празднество по России и Европе.
Той зимой жили мы в Риме. Уезжая весной из Москвы, бросили квартиру, лето провели в деревне, а там в Италию. Возвращаясь, не очень-то беспокоились об устройстве: Москва велика, где-нибудь да приткнемся. (Все тогда в нашем кругу так жили: неужели стали бы заводить «обстановочки», сберегательные книжки и т. д.?).
И на этот раз мы не ошиблись. Получили две комнаты большой квартиры на Сивцевом Вражке, у близкого нам человека. Занимали низ старинного особняка. Мои окна выходили во двор, за забором которого стоял дом Герцена. Наискось жил Бердяев — его кабинет смотрел на герценовский двор. Была теплая, серая зима, со снегом, после Италии холодным. В нашем доме все шло чинно, несколько в старомодном духе. Девочки ходили в гимназию, горничная Домаша в белом фартуке аккуратно подавала на стол в большой столовой. В окнах тащился на санках Ванька, по ухабам Сивцева Вражка. Домаша, три месяца назад приехавшая из Рязанской губернии, жеманно говорила, что уж ничего не помнит, как там живут у «мюжиков». Одним словом, была вокруг старая, простецкая и приятная Москва — вплоть до этого самого Николая Андреевича, соседа, скульптора из Большого Афанасьевского. Я его знал довольно хорошо. Некогда, в ясные январские утра, ходил к нему в студию, огромную, светлую, где он сажал меня на вертящийся стул, вертел туда-сюда как игрушку — вертел и тот глиняный бюст, что лепил с меня.
Для самого Гоголя не нужна была натура. Но для Тараса Бульбы (в барельефе постамента) позировал ему Гиляровский, всей Москве известный, толстый, добродушный старожил, ходивший в поддевке и высоких сапогах — журналист, правда, смахивавший на Тараса Бульбу.
Николай Андреевич сам был крепкий человек, мещански-купецкого происхождения, с густым бобриком, бородою лопатой, острым и живым взглядом. Руки у него сильные, и весь он сильный, телесный, очень плотский. Гоголь мало подходил к его складу. Но вращался он в наших кругах, литературно-артистических. Розанова, Мережковского, Брюсова читал. Более сложное и глубокое понимание Гоголя, принесенное литературою начала века, было ему не чуждо, хоть по существу мало имел он к этому отношения. Во всяком случае, замыслил и сделал Гоголя не «творцом реалистической школы», а в духе современного ему взгляда: Гоголь измученный, согбенный, Гоголь видящий и страшащийся черта — весь внутри, ничего от декорации и «позы». Одним словом, памятник не выигрышный. Кажется, и проект его вызывал сопротивления: находили, что писатель получается какой-то мизерный. Не только генеральского нет в нем, но больше смахивал на хилую, пригорюнившуюся птицу (Гоголь сидит, как известно — в тяжкой и болезненной задумчивости).
Все же проект утвердили. Зимой памятник поставили, в самом начале Пречистенского, против стены тира Александровского училища. Но был он еще закрыт — до торжественного момента.
Весна выдалась холодная, в апреле перепадал снег с дождем. Гоголю предстояло явиться без блеска: подлинно хмурою личностью литературы. Всем заведовала Дума и Общество Любителей Российской. Словесности. Западники, славянофилы, ссорившиеся на пушкинских торжествах, перевелись. Литература делилась на «реалистов» и «символистов». Не было никого сколь-нибудь равного Тургеневу, Достоевскому (Толстой не в счет, он доживал последние дни)… Чехов в могиле. Надо сознаться: и «реалисты», и враги их отнеслись к Гоголю равнодушно. «На Пушкина» съехалась вся братия (Тургенев даже из-за границы). Гоголя удостоили совсем немногие — неловко даже вспомнить…
Открывали памятник в сырости, холоде. Липы едва распускались. Трибуны окружали монумент. Народу много. Помню минуту, когда упал брезент и Гоголя мы, наконец, увидели. Да, неказисто он сидел… и некий вздох прошел по, толпе. Потом Грузинский, Председатель Любителей Словесности, говорил речь…
Алексей Евгеньевич, пожилой, основательный профессор, читал на женских курсах русскую литературу. Сейчас был параден (во фраке, пришлось доставать цилиндр), несколько бледен, но бодро и привычно сказал, что полагается.
В официальных торжествах всегда есть сторона печальная — надо упомянуть о «великом художнике», «светоче, ведущем нас по пути добра и красоты» — удивляться и негодовать на это не приходится. Так было, так будет. Все это давно описано у Флобера (сельскохозяйственный съезд в «Мадам Бовари»), наслушались мы таких речей и на гоголевских торжествах.
Первое открытое заседание было днем в Университете. За отсутствием писателей пришлось говорить людям, далеким от литературы, но «почтенным». Ясно запомнилась на трибуне в актовом зале фигура знаменитого кадета-юриста. Говорил он крепко, самоуверенно, сильно выпячивая белую крахмальную грудь. Видно, что знает цену себе и словам своим — мы же, слушавшие, так и не поняли, что в них ценно.
Были иностранцы, представители университетов. Из французов Мельхиор де Вогюэ, Лирондель. Немцы отсутствовали. У Вогюэ лучше всего был зеленый академический мундир. Англичанин — в длинном черном сюртуке, стоячих воротничках, бритый, мягко-благодушный. Говорил ровно, скромно и почтительно. Вероятно, хорошо. Я понял только два слова: gogolian realistik. Они казались мне очень смешными, и вызывали веселое настроение.