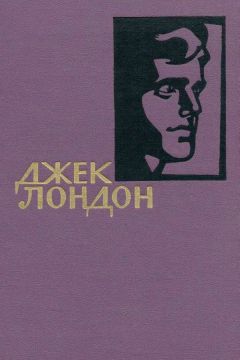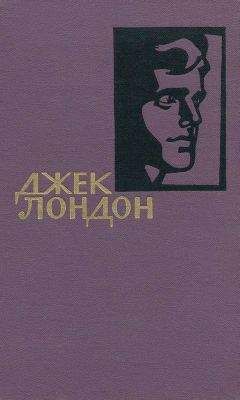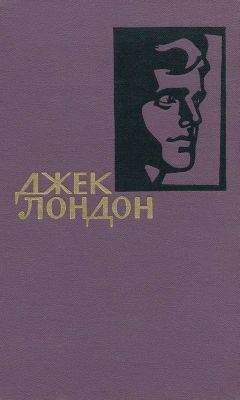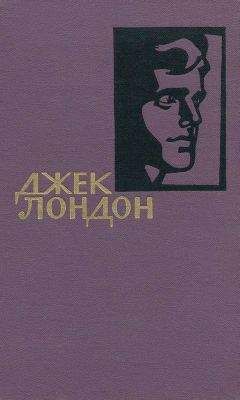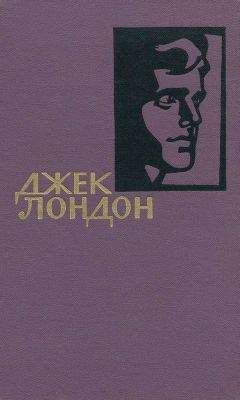Джек Лондон - Собрание сочинений в 14 томах. Том 5
Вожак стоял неподвижно и ждал. Тогда из-за деревьев вышел второй мальчик. Но у этого не хватило мужества пойти на казнь с поднятой головой. Он приближался чуть ли не ползком, как трусливая собачонка, охваченная смертельным страхом, который заставляет ее то и дело поворачивать и сломя голову бросаться обратно. И каждый раз он возвращался, описывая вокруг своего палача все меньшие и меньшие круги, скуля и повизгивая, как звереныш. Я заметил, что он ни разу не взглянул на цыгана. Глаза его были неотступно прикованы к кнуту, и в них стоял такой ужас, что все во мне переворачивалось от сострадания, – безысходный ужас ребенка, не понимающего, за что его мучают. Я видел, как справа и слева от меня падают в бою крепкие мужчины, корчась в предсмертных судорогах; видел, как разорвавшийся снаряд превращает десятки человеческих тел в кровавое месиво, но, поверьте, видеть это было забавой, совершеннейшим пустяком по сравнению с тем, что я испытывал, глядя на несчастного ребенка.
Началась порка. Избиение, которому подвергся первый мальчик, бледнело перед карой, постигшей его товарища. Не прошло и минуты, как его худенькие ножки залила кровь. Он приплясывал, извивался и сгибался пополам, – казалось, это не мальчик, а зловещий картонный паяц, которого дергают за нитку. Я говорю «казалось», но его отчаянные вопли не оставляли сомнений в реальности этой казни. Это был звенящий, пронзительный визг, без единой хриплой ноты, – невинная, надрывающая душу жалоба ребенка. Наконец силы изменили ему, разум померк, и он кинулся бежать. Но на этот раз человек бросился за мальчиком, щелканьем кнута отрезая ему дорогу, загоняя его на открытое место.
И тут произошло замешательство. Я услышал дикий, сдавленный вопль: женщина, сидевшая на козлах фургона, бежала к мальчику, чтобы помешать расправе. Она бросилась между мужчиной и ребенком.
– Что, и тебе захотелось? – проворчал цыган. – Получай, коли так!
Он замахнулся. Длинная юбка закрывала ей ноги, и он целился выше, ладил хлестнуть ее по лицу, – а она защищалась, как могла, закрываясь руками и локтями, втянув голову, подставляя под удары худые руки и плечи. Героическая мать! Она знала, что делает. Мальчик, повизгивая, побежал к фургонам, чтобы там укрыться.
И все это время четверо мужчин, лежавших со мной рядом, смотрели на это истязание и не двигались с места. Не шелохнулся и я, – говорю это без ложного стыда, хотя моему рассудку пришлось выдержать нелегкую борьбу с естественным побуждением – вскочить и вмешаться. Но я достаточно знал жизнь. Не много пользы принесло бы этой женщине или мне, если бы пятеро цыган на берегу Сасквеханны избили меня насмерть! Я однажды видел, как вешали человека, и хотя все во мне кричало от негодования, не проронил ни звука. При первой же попытке протеста мне раскроили бы череп рукояткой револьвера, ибо повесить этого человека повелевал Закон.
А здесь, в цыганском таборе, Закон требовал, чтобы непокорная жена была наказана плетью.
По правде сказать, в обоих случаях причиною того, что я не вмешался, было не столько уважение к Закону, сколько то, что Закон был сильнее меня. Не будь здесь четырех цыган, с какой радостью бросился бы я на человека, вооруженного кнутом. И уж, конечно, сделал бы из него котлету, – разве только кто из женщин поспешил бы к нему на выручку с ножом или дубиной. Но рядом со мной на траве лежало четверо цыган, а это означало, что перевес на стороне Закона.
Поверьте, я жестоко страдал, Мне и раньше случалось видеть, как избивают женщин, но такого избиения я еще не видел. Платье у нее на плечах было изодрано в клочья. Один удар, от которого она не смогла увернуться, пришелся по лицу и рассек ей всю щеку до самого подбородка. Не один, не два, не десять и не двадцать – удары сыпались без счета, без конца, кнут снова и снова обвивался вокруг тела несчастной, сыромятный ремень обжигал, язвил. Пот лил с меня градом, я тяжело дышал и судорожно цеплялся за траву, выдирая ее с корнем. И все время рассудок твердил мне: «Дурак ты, дурак!» Удар, рассекший ей щеку, чуть не погубил меня. Я рванулся было с места, но рука соседа тяжело легла мне на плечо.
– Полегче, приятель, полегче, – пробормотал цыган.
Я посмотрел на него, и он тоже уставился на меня. Это был атлет, огромный детина, широкоплечий, с налитыми мускулами, лицо вялое, невыразительное – не злое, но без искорки чувства, без проблеска мысли. Темная душа, не ведающая добра и зла, душа тупого животного. Да это и было животное, почти без проблесков сознания, добродушное животное, с мозгом и мускулами гориллы. Рука его тяжело давила мне на плечо, и я чувствовал всю силу его мышц. Я взглянул на остальных скотов: двое из них были безучастны и не проявляли ни малейшего любопытства, между тем как третий пожирал глазами это зрелище. И тогда здравый смысл вернулся ко мне, мускулы мои обмякли, я снова повалился на траву.
Добрые девы, накормившие меня утром, невольно пришли мне на ум. Всего каких-нибудь две мили по прямой отделяли их от этой сцены. Здесь, в этот тихий безветренный день, под благодатным солнцем такую же слабую женщину, их сестру, истязал брат мой. Вот страница жизни, которой им не увидеть. Что ж, тем лучше, хотя, оставаясь слепыми, они никогда не поймут ни сестер своих, ни себя, ни того, из какой глины они вылеплены. Ибо женщине, живущей в тесных, надушенных комнатах-коробочках, не дано быть маленькой сестрой большого мира.
Но вот казнь кончилась, смолкли крики, и цыганка поплелась назад, на свое место в фургоне. Никто из подруг не решался к ней подойти – сразу по крайней мере. Их удерживал страх. И лишь выждав, сколько требовало приличие, они окружили ее. Вожак убрал кнут на место и, возвратившись к нам, снова растянулся на земле, по правую руку от меня. Он притомился после своей работы и тяжело дышал. Утирая рукавом пот, заливавший ему глаза, он вызывающе уставился на меня. Я равнодушно встретил его взгляд: то, что он сделал, ни в малейшей степени меня не касалось. Я не сразу ушел, а пролежал еще с полчаса, что при данных обстоятельствах предписывал такт и этикет. Я свернул себе две-три папиросы из их табака. И когда я спустился с насыпи на полотно, у меня уже были все сведения насчет того, как лучше сесть на ближайший товарный, идущий на юг.
Подумаешь, невидаль! Самая обыкновенная страничка жизни – не больше! Бывает куда страшнее. Когда-то я доказывал (в шутку, как полагали слушатели), что главное отличие человека от других тварей в том, что человек – единственное животное, которое дурно обращается со своей самкой. На это не способны ни волк, ни трусливый койот, ни даже собака, природу которой изгадил приручивший ее человек. По крайней мере в этом собака верна первобытному инстинкту, тогда как человек растерял их все – в первую очередь инстинкты благодетельные.
Есть ли что-нибудь страшнее здесь описанного? Прочтите любой очерк о детском труде в Соединенных Штатах на востоке и западе, на севере и юге – везде, и вы убедитесь, что все мы причастные и подвластные царству чистогана, печатаем и выпускаем в свет куда более страшные страницы жизни, чем эта скромная страничка об избиении женщины на откосе Сасквеханны.
Я спустился футов на сто под уклон и нашел место, где плотно слежался гравий; здесь я мог сесть на товарный, когда он замедлит ход на подъеме. На насыпи человек шесть бродяг караулили поезд. Кое-кто из них, чтобы убить время, резался в карты, которые были необыкновенно истрепаны. Я присоединился к ним. Сдавал молодой веселый негр, толстяк, с круглым, как луна, лицом, излучавшим добродушие. Добродушие так и сочилось из него. Бросив мне первую карту, он вдруг остановился и спросил:
– Эй, дружок, а ведь мы с тобой вроде встречались?
– Встречаться-то встречались, – отвечал я, – только, сдается, на тебе была другая амуниция.
Он озадаченно посмотрел на меня.
– Помнишь Буффало? – спросил я.
Тут он вспомнил – и восторженно приветствовал меня как старого товарища, ибо в Буффало он носил полосатую куртку и отбывал свой срок в исправительной тюрьме округа Эри. Что до меня, то я тоже носил тогда полосатую куртку и тоже отбывал свой срок.
Игра продолжалась, и я узнал, на что играют. Внизу под насыпью, где протекала река, футах в двадцати пяти от нас виднелся источник; к нему бежала крутая узкая тропка. Мы играли в карты, примостившись на краю насыпи. Проигравший должен был сбежать вниз, набрать воды в небольшую жестянку из-под сгущенного молока и напоить желающих.
После первой партии в дураках остался негр. Он взял жестянку и полез вниз, а мы сверху глядели, как он набирает воду, и потешались над ним. Ну и пили же мы, скажу я вам! Как лошади! Четыре раза ходил он в оба конца для меня одного, да и другие пили, не стесняясь. Тропинка была крутая, негр то и дело где-нибудь на полдороге тыкался носом в землю, проливал воду и снова спускался вниз. Однако он ничуть не сердился и хохотал не меньше нас, а потому, должно быть, и падал. Впрочем, он клялся, что еще возьмет свое: пусть только кто-нибудь проиграет, – он будет пить, как бездонная бочка!