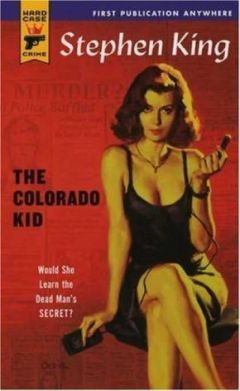НОРМАН МЕЙЛЕР - ЛЕСНОЙ ЗАМОК
Всю зиму, весну и лето 1900 года болезнь и смерть Эдмунда тяжелым грузом лежали на сердце у Адольфа.
И причина этого была проста. Адольф еще не утратил остатков совести. И если жалость к самому себе — это смазка, которой мы пользуемся, облегчая самым низким чувствам пенетрацию в человеческое сердце, то совесть стремится воспрепятствовать подобному проникновению. Совесть — это плетка, орудуя которой Наглые удерживают людей в богоугодной позе. Мы, в свою очередь, имея дело с наиболее продвинутыми представителями нашей кли-ентелы, стараемся избавить их от совести как таковой. И, добившись своего, снабжаем клиента симулякром чистой совести: отныне он готов (и может) оправдать большинство собственных эмоций, истребить или минимизировать которые пытаются Наглые: алчность, похоть, зависть… Нет нужды перечислять все семь так называемых смертных грехов. Суть в том, что человек, наделенный симулякром совести, способным оправдать и возвеличить любые злодеяния, оказывается на практике куда могущественнее человека просто (всего лишь) бессовестного. С некоторых пор наш продвинутый клиент считает правомерными и справедливыми как раз те собственные поступки, которые и вызвали у него поначалу угрызения совести и привели к возникновению постыдных воспоминаний. Могу добавить, что максимального успеха мы добиваемся в тех случаях, когда исходная и аутентичная совесть оказывается особенно упрямой, а значит, напоминает о себе даже после того, как клиент вышел на уровень субъективной непогрешимости; в такой ситуации он воспринимает рудиментарные остатки совести как личного врага, как непосредственную угрозу собственному благополучию. Разумеется, у серийных убийц, гордящихся своими «свершениями», совесть отсутствует напрочь. Естественным результатом такого положения вещей является выгода, извлекаемая нами из боевых действий, когда воюющие стороны отбрасывают совесть совершенно сознательно. Это сильно упрощает нашу работу. А вот в сравнительно мирные времена от беса требуется изрядное мастерство; точнее, мастеровитые бесы вроде меня начинают пользоваться повышенным спросом. Убедить человека (мужчину или женщину) убить ближнего — это, доложу я вам, далеко не фунт изюму. Предоставленный самому себе, человек осуждает убийство как наивысшее проявление себялюбия. Это отлично понимали еще первобытные дикари, никогда не убивавшие животных без того, чтобы попросить за это прощения.
И вот я решил укрепить в Ади ощущение собственной силы, которое придает убийце совершенное им убийство. Разумеется, он был еще слишком юн для того, чтобы стать объектом наиболее изощренных процедур и методик, поэтому я прибег всего лишь к инсталляции сновидения, в котором Адольф превратился в героя франко-прусской войны 1870 года. Имплантация содержала намек на то, что он сумел отличиться еще в предыдущем существовании — без малого за два десятилетия до того, как в 1889 году появился на свет. Было нетрудно внушить ему, что он в одиночку перебил целый взвод французских солдат, имевших несчастье атаковать практически никак не укрепленные позиции юного героя. Разумеется, этот имплантант был груб, чтобы не сказать примитивен, но я и рассматривал его всего лишь как фундамент, на котором позднее намеревался воздвигнуть куда более сложные сооружения. Героизм, проявленный в ходе франко-прусской войны, сам по себе был не более чем заведомо несбыточной мечтой, а подобное мышление «в желательном наклонении» — продукт, как правило, скоропортящийся.
Должен ли я напомнить о том, что проблемой выдачи желаемого за действительное мы занялись задолго до того, как у доктора Фрейда появились по этому вопросу собственные соображения? Человеческую психологию мы поневоле изучили куда лучше, чем «глава венской делегации». Поверхностность многих его высказываний и так называемого психоанализа способна вызвать у нас разве что улыбку. Сам доктор в этом и виноват, потому что принципиально отказывался иметь дело как с ангелами, так и с бесами и самонадеянно отрицал малейшее участие Болвана и Маэстро в больших и малых земных делах.
С другой стороны, добрый доктор заслуживает похвалы — пусть и весьма умеренной — за грубую разметку человеческого «я». Благодаря этой концепции (хотя и не ей одной) люди почувствовали себя точно такими же слоеными пирогами, как мы, бесы, в результате отсутствия у нас стабильной самооценки.
Следует сказать, что «я» Адольфа попало в фокус моего внимания. Не имело особого смысла поднимать его самооценку, если наряду с этим он продолжит терзаться сомнениями относительно собственной виновности в смерти Эдмунда. Не желая поверить, он вместе с тем чувствовал себя виноватым; хуже всего было, однако, то, что у меня самого не имелось однозначного ответа на мучающий мальчика вопрос: виновен он или нет (или, скажем так, виновен отчасти)?
Факты были просты, в отличие от вытекающих из них последствий. Однажды утром, пока Клара с Анжелой работали в саду (и при них, разумеется, была Паула), а глава семейства отправился на прогулку, Адольф застал Эдмунда в комнате, служившей им обоим детской до тех пор, пока старший из братьев не заболел корью.
Адольф подошел к Эдмунду и поцеловал его. Только и всего. Должен признать, что я подбил его на это. Понятно, что я питал к Эдмунду нечто вроде искренней симпатии, но в сложившейся
ситуации у меня не оставалось иного выбора. Имелось прямое указание Маэстро, и проигнорировать его я не мог.
— Почему ты меня целуешь? — спросил Эдмунд.
— Потому что я тебя люблю.
— Это правда?
— Правда.
— Поэтому ты меня и оскальпировал?
— Тебе пора забыть об этом. И простить меня. Наверное, в наказание за это у меня и появилась сыпь. Потому что мне стало очень стыдно.
— Это правда?
— А ты как думаешь? Конечно правда. И я хочу поцеловать тебя еще раз. Чтобы возвратить тебе скальп.
— Это не обязательно. Голова у меня уже не болит.
— Не будем рисковать. Позволь мне поцеловать тебя еще раз.
— А разве такое можно? Ведь у тебя сыпь.
— Между братом и сестрой — да, бывает, что и нельзя. А двум братьям можно. Это медицинский факт: родные братья могут поцеловаться, даже если у одного из них сыпь.
— А мама говорит, что нельзя. Мама говорит, что тебя еще нельзя целовать.
— Мама не понимает, что для родных братьев это совершенно нормальное дело.
— Клянешься?
— Клянусь!
— Покажи мне, как ты держишь пальцы, когда клянешься.
Я совершенно определенно руководил Адольфом в эти мгновения. Он вытянул вперед руки, широко растопырив пальцы.
— Клянусь, — повторил он и несколько раз подряд поцеловал Эдмунда мокрым ртом, и тот тоже поцеловал его. Эдмунд был так счастлив оттого, что Адольф в конце концов его полюбил.
И вот Эдмунд заболел корью. И она свела его в могилу. И мы все разделяем ответственность за это. Или нет. На сей счет мне известно не больше, чем самому Адольфу. Из ночи в ночь он теперь героически истреблял по целому взводу французов. Я решил побаловать его как следует. Конечно, каждое из этих сновидений в отдельности не могло обеспечить длительного эффекта, но, как однажды Энгельс написал Марксу, количество переходит в качество, и мне подумалось, что кашу маслом не испортишь, — особенно при наличии у нее нескольких неприятных вкусовых оттенков. С другой стороны, я пришел к выводу, что Адольфу уже пришла пора укрепить собственное «я» неколебимой верой: всё, что мы убиваем, делает нас сильнее.
Книга тринадцатая
АЛОИС И АДОЛЬФ
Готовность Адольфа Гитлера уничтожать людей в газовых камерах тогда, в самом начале столетия, еще не успела превратиться в действенное желание. И если я все же обращаюсь к событиям 1945 года, то только затем, чтобы выявить их прямую связь с первыми месяцами после смерти Эдмунда. Неукоснительно выполняя указания Маэстро, я, по сути дела, не занимался ничем другим, кроме интенсивного развития в душе Адольфа стихийно зародившегося ощущения, что когда-нибудь ему суждено стать великим военачальником на службе у богов смерти. Это позволяло верить в то, что его, в отличие от простых смертных, ждет иной конец. Разумеется, я тогда и не догадывался о подлинных масштабах открывающегося перед ним поприща. С не меньшим тщанием—и при помощи тех же средств — я растил бы и Луиджи Лучени, стань он моим агентом в столь юном возрасте.
Я нахожу, однако же, интересным тот факт, что в самые последние месяцы жизни Гитлеру хотелось, чтобы его кремировали. Телесный «низ» неизменно казался ему презренной материей, но к самому концу жизни его душа (его духовный «верх») — по любым критериям, кроме, понятно, наших, — разложилась в еще большей степени, чем тело. Разумеется, только справедливо, что человек, наделенный властью отправлять на смерть миллионы, нуждается в исключительно твердой оболочке собственного «я», чтобы не чувствовать запредельного ужаса из-за того, что, действуя, как он действует, теряет душу. Большинство руководителей успешно воюющих государств отличаются этим качеством чуть ли не изначально. Им удается не мучиться бессонницей долгие ночи напролет из-за потерь, понесенных противоположной стороной конфликта. Подспорьем им служит мощнейший среди изобретенных людьми моторов психического бесчувствия, имя которому патриотизм! И всё тот же патриотизм — самое удобное средство для приведения в действие широких народных масс, хотя не исключено, что в дальнейшем на смену ему придут искусственно разжигаемые религиозные чувства. Мы любим фундаменталистов. Их фанатичная вера, убеждены мы, рано или поздно разовьется в победоносное оружие всеобщего уничтожения.