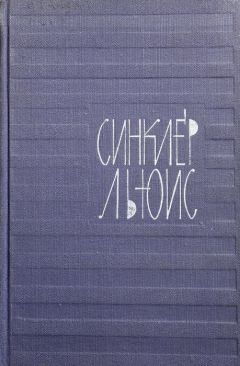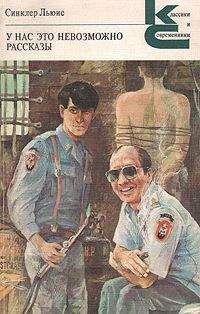Льюис Синклер - Энн Виккерс
— Боюсь, Рассел, нам надо и еще кое-что обсудить.
Она кинула шляпу на кушетку, пересела в глубокое кресло, закурила папиросу. Уж если терпеть пытку, так по крайней мере с удобствами! Он смотрел на нее, расплываясь в улыбке, — еще немного, и его своенравная маленькая возлюбленная, которая втайне все-таки обожает его, окончательно признает себя побежденной.
— Рассел, есть причины, по которым, может быть, мне следовало бы вернуться к тебе и делить с тобой стол и постель…
— Фи! Что за обороты! Будь романтичнее, Энн.
— …но наш уговор должен базироваться на той самой реальности, о которой ты говоришь. Рассел, у меня будет ребенок.
— Что?! — По-видимому, он вспомнил ту ночь, которую случайно провел у нее немногим более двух месяцев назад, и просиял. — Но это же великолепно! Любовь моя, я вне себя от радости! Я же всегда хотел ребенка, больше всего на свете!
В два прыжка он очутился рядом, распростерся у ее ног и покрыл ее руки страстными и мокрыми поцелуями.
— Ребенок! Играть с ним, смотреть, как он растет, учить его… Может быть, наш ребенок сумеет избежать ошибок, которые совершали его родители! Моя работа наконец приобретет какой-то смысл! Я пошлю его учиться в Прннстон! Будет, конечно, мальчик! А мне-то и в голову не приходило, что ты согласишься иметь детей!
— Рассел! Все не так просто. Может быть, я это тебе зря говорю, но ребенок не твой.
— То есть как? А чей же?
— Ну, прежде всего мой.
— Кто этот человек?.. Постой, сколько месяцев?
— Два с небольшим.
— В таком случае… Погоди-ка. В таком случае это может быть мой ребенок!
— Да, это возможно. Но маловероятно. Слушай меня внимательно, Рассел. Я не намерена подвергаться допросу или запугиванию и не намерена изображать публику на представлении трагедии из твоей жизни. Ребенок мой и только мой. Я не имею ни малейшего права что бы то ни было от тебя требовать. Ты можешь выгнать меня на мороз, — правда, это будет немного смешно: на дворе июнь, у меня есть деньги на такси и собственная, вполне приличная квартира. Я неисправима! Ребенок у меня будет, и я этому очень рада. И будет, кстати, не мальчик, а девочка. Но у нее должна быть семья. Из тебя, как мне кажется, выйдет хороший отец. А девочке отец особенно необходим. Хотя она прежде всего моя и только моя. Я не предъявляю к тебе никаких претензий, у тебя нет по отношению ко мне ни малейших обязательств. Но ты утверждаешь, что хочешь, чтобы я вернулась, и хочешь ребенка. Решай: принимаешь ты меня вместе с этим ребенком, с моим ребенком (и это, пожалуй, все, что тебе предстоит узнать о его происхождении), или нет?
— Боже правый, да не говори ты хоть сейчас как чопорная старая дева, которая отчитывает мальчика-посыльного!
— Пожалуй, я действительно выразилась несколько высокопарно… Что делать, нелегко говорить об этом небрежным тоном. Не каждый день случается такое положение!
Оба рассмеялись. Атмосфера разрядилась. Но он сразу же снова принял серьезный вид.
— Энни, не стану притворяться, будто меня все это не огорчило. Я так надеялся, что ты захочешь ребенка от меня — когда-нибудь, со временем. И ведь вначале ты меня любила. А потом — не знаю, что я такое сделал; дорогая моя, я до конца не мог ничего понять: ты вдруг ко мне так охладела, я так надоедал тебе, так раздражал! Дорогая, как я страдал! Во-первых, из-за тебя. Во-вторых, из-за того, что я всегда до умопомрачения хотел маленького… Я вырезал из женских журналов фотографии малышей и прятал их в столе…
Всегда представлял себе, как я под вечер прихожу домой, а мне навстречу по бетонной дорожке топает такой трогательный карапузик, и я беру его на руки и поднимаю высоко-высоко, а он визжит от восторга и лепечет: «Па-па…»
Он обливался потом, обнажая перед ней свою наболевшую душу.
И она вернулась к нему, чтобы у Прайд был отец, после того как две недели почти целиком провела с Барни — угрюмым и необычно молчаливым.
ГЛАВА XLI
Переносить беременность в сорок лет Энн было нелегко. И все же гораздо легче, чем считали ее заботливые друзья. Они с таким удовольствием, с таким самоотверженным упоением давали ей советы, ахали и охали, без конца выясняли, что именно она намерена делать, и упрашивали ее не делать этого!
Рассел настаивал, чтобы она ложилась спать ровно в девять часов. В результате она неизменно просыпалась в четыре часа утра и до восьми ворочалась в постели, а кроме того, всегда была рядом, представляя собой удобный объект для его любовных поползновений. Пэт Брэмбл-Помрой звала Энн пожить в Нью-Рошелле; таким образом она сменила бы один вид усталости — от городского шума — на другой, от ежедневных поездок по железной дороге в Нью-Йорк и обратно. Джулия Кейси (из ИНОБЛа) рекомендовала вегетарианский стол и солнечные ванны. А миссис Кист, заместительница Энн, произнесла целую проникновенную речь:
— Ах, боже мой, мы все так рады, что у нас родится маленький! Весь персонал Стайвесантской исправительной тюрьмы считает, что это будет наш общий ребеночек! Но если позволите — один дружеский совет: почему бы вам не взять отпуск месяца на четыре и не посвятить себя целиком этому священному долгу?
И Энн, отвечая любезным тоном:-Большое спасибо, миссис Кист, но как я могу взвалить на вас лишние обязанности? — про себя бушевала: «Вот-вот, уйти в отпуск, чтобы ты тем временем успела выполнить свой священный долг — подкопаться под меня и выжить меня с этого места!»
Не приходили в ажиотаж только два человека: доктор Уормсер и Барни Долфин.
Энн уговорила Мальвину быть ее акушеркой.
— Все эти толстокожие акушеры, — повторяла она, вспоминая свои наблюдения в народном доме, — утверждают, что беременность — «естественный процесс», и делают из этого удивительный вывод, что от утренней тошноты не тошнит, а схватки не причиняют боли. Сейчас я не нуждаюсь в сочувственном сюсюканье. Мне не надо, чтобы со мной нянчились. Я хочу, чтобы со мной обращались так, как я заслуживаю по должности. Но когда придет время, я хочу получить полную дозу сочувствия: тогда другое дело!
Барни не тратил лишних слов, не выводил ее из себя, спрашивая по пятнадцать раз на дню: «А как ты теперь себя чувствуешь?» Он просто обнимал ее и прижимал к своему широкому плечу, где и было ее законное место.
Прожив с Расселом около двух недель, она поняла, что поступила как последняя идиотка, и не исключено, что собственная глупость ее доконает. Она сама соорудила себе ловушку, и, повторяя, что поступает так из деловых соображений, во имя будущего благополучия Прайд, бросилась в нее очертя голову и услышала, как защелкнулась дверца. Теперь она точно так же была лишена свободы, как любая из ее арестанток, — даже в большей степени: в тюрьме по крайней мере они хоть в своих камерах были свободны от назойливых глаз.
К концу этих двух недель Рассел представлялся ей подушкой, прижатой к лицу, диетой, состоящей из одних кремовых пирожных, клубничного мороженого и содовой воды, неиссякаемым источником историй на сон грядущий, пастушьим рожком, который без устали выводит «Дикую розу Ирландии», горячей ванной, надушенной нарциссом, в которую ее положили, связав шелковыми веревками…
Все это время он был так дьявольски предупредителен, так хотел, чтобы она признала, как дьявольски он предупредителен, вел себя так дьявольски кротко и всепрощающе — проклятье, ну просто не обойтись без «дьяволов»!
Он обращался с ней, как с ребенком, которого уличили в воровстве или каком-нибудь гадком поступке и которого любящие родители хотят лаской вернуть на путь истины.
Рассел блаженствовал. В первый год Великой Депрессии,[201] когда десятки тысяч служащих оказывались выброшенными на улицу, когда всем урезывали жалованье, годовой оклад Рассела увеличился с двенадцати до пятнадцати тысяч. В нем открылся неведомый прежде талант по части мясного бульона, общих душевых, способов борьбы с кражей гостиничных полотенец, экономии электричества с помощью использования лампочек в минимальное количество свечей — и прочих ярких метафор и эпитетов, без которых немыслимо искусство управления дешевыми отелями. А в этом году люди, которые раньше платили за комнату три доллара в сутки, искали номер за доллар, и разве плохо, что выгоду из этого извлекал именно Рассел Сполдинг, не просто делец-коммерсант, а инженер-промышленник во всеоружии передовых идеалов!
Он успешно продвигался к цели: пятнадцать тысяч годовых — уже немаловажный этап; теперь его больше не подавляли ни громкие звания жены, ни ее ораторская популярность. Дня не проходило, чтобы его самого не приглашали выступить — во всяческих клубах, на съездах работников обувной и кожевенной промышленности, на ежегодном банкете Ассоциации поставщиков провизии и рестораторов. А когда он станет миллионером, он облагодетельствует стипендией какой-нибудь колледж и уж не удовольствуется каким-то куцым ярлычком доктора права — он получит и степень доктора филологических наук, и доктора церковного права, а возможно, и доктора богословия.