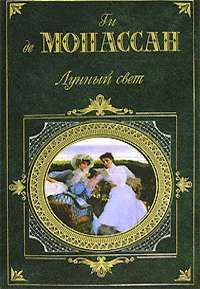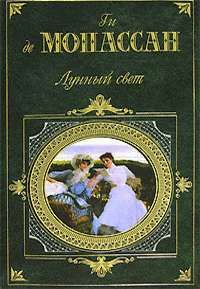Ги Мопассан - Лунный свет (сборник)
А она еще жива, она тут, в этом домике, укрытом цветами.
Я не колебался ни минуты, я позвонил у двери.
Мне отпер слуга, глуповатый на вид юнец лет восемнадцати, с нескладными руками. Я написал на визитной карточке несколько строк: галантный комплимент старой актрисе с горячей просьбой принять меня. Может быть, ей известно мое имя, и она согласится открыть для меня двери своего дома.
Молодой лакей ушел, затем вернулся и, попросив пожаловать, провел меня в опрятную гостиную чопорного стиля Луи-Филиппа, обставленную тяжеловесной и неудобной мебелью, с которой в мою честь снимала чехлы молоденькая горничная, стройная, тоненькая дурнушка лет шестнадцати.
Затем меня оставили одного.
На стенах висело три портрета: хозяйки дома в одной из ее ролей, поэта, одетого в длинный редингот, перехваченный в талии, и в сорочку с пышным жабо, по старинной моде, и музыканта за клавикордами; манера живописи была четкая, тонкая, изящная и сухая.
Актриса улыбалась прелестными губами и голубыми глазами – белокурая, очаровательная, но жеманная, как все красавицы на портретах того времени. Поэт и музыкант как будто уже видели перед собой будущие поколения.
В этой гостиной все говорило о прошлом, об ушедшей жизни, о людях, которых не стало.
Открылась дверь, и вошла старушка, совсем старенькая, вся седая, с белыми, как снег, волосами, с белыми бровями, – настоящая белая мышка, проворная и бесшумная.
Она протянула мне руку и все еще молодым, звучно вибрирующим голосом сказала:
– Благодарствую за внимание, сударь. Как это мило с вашей стороны. Стало быть, нынешние мужчины еще вспоминают о женщинах прошлого! Садитесь, пожалуйста.
Я сказал, что меня пленил ее домик и мне захотелось узнать имя владельца, а услышав ее имя, я не мог побороть желания постучаться к ней в дверь.
Она ответила:
– Очень приятно, сударь, тем более что подобное посещение для меня теперь великая редкость. Когда мне подали визитную карточку и я прочла ваши любезные слова, у меня забилось сердце, словно я получила весть о возвращении друга, исчезнувшего на целых двадцать лет. Ведь я покойница, сударь, право, покойница, обо мне никто не вспомнит, никто не подумает до того дня, как я умру по-настоящему. А тогда все газеты дня три будут говорить о Жюли Ромэн, печатать анекдоты, воспоминания, напыщенные похвалы. А затем со мной будет покончено навсегда…
Помедлив немного, она добавила:
– И уж этого недолго ждать. Пройдет несколько месяцев, может быть, несколько дней, и от маленькой старушки, которая пока еще жива, останется только маленькая горстка костей.
Она подняла глаза к своему портрету – он улыбался ей, этой старой женщине, этой карикатуре на него, затем взглянула на портреты обоих своих возлюбленных – высокомерного поэта и вдохновенного музыканта, а они, казалось, говорили друг другу: «Что нужно от нас этой развалине?»
Сердце у меня сжалось от печали, от неизъяснимой, смутной и горькой печали о прожитых жизнях, которые еще борются со смертью в воспоминаниях, словно утопающий в глубокой реке.
В окно видно было, как по дороге из Ниццы в Монако проносятся блестящие экипажи, а в них мелькают молодые, красивые, богатые, счастливые женщины и улыбающиеся, довольные мужчины. Жюли Ромэн заметила мой взгляд, угадала мои мысли и еле слышно промолвила с покорной улыбкой:
– Жизни не удержать…
– А как, наверно, прекрасна была ваша жизнь! – ответил я.
Она глубоко вздохнула:
– Да, прекрасна и радостна. Вот почему я так жалею о ней.
Я видел, что она не прочь поговорить о себе, и потихоньку, очень осторожно, словно прикасаясь к больному месту, принялся ее расспрашивать.
Она говорила о своих успехах, о своем упоении славой, о своих друзьях, о своей блистательной жизни.
Я спросил:
– Самую глубокую радость, истинное счастье дал вам, конечно, театр?
Она быстро ответила:
– О нет!
Я улыбнулся; она печальным взглядом окинула портреты двух своих возлюбленных и сказала:
– Нет, счастье мне дали только они.
Я не удержался от вопроса:
– Кто же из них?
– Оба. Я порою немного путаю их в памяти – по-старушечьи, а к тому же перед одним из них чувствую себя теперь виноватой.
– В таком случае, сударыня, ваша признательность относится не к ним, а к самой любви. Они были только ее истолкователями.
– Возможно. Но какими!..
– А не думаете ли вы, что гораздо сильнее вас любил или мог бы любить кто-нибудь другой, какой-нибудь простой человек, – пусть он не был бы гением, но отдал бы вам всего себя, все свое сердце, все мысли, все мгновения своей жизни, тогда как в любви двух этих великих людей у вас были опасные соперницы: музыка и поэзия.
Она воскликнула удивительно молодым своим голосом, задевающим какие-то струны в душе:
– Нет, сударь, нет. Другой человек, возможно, любил бы меня сильнее, но любил бы не так, как они. Ах, они пели мне песню любви, какой не спеть никому в мире! Она опьяняла меня. Да разве кто-нибудь другой, обыкновенный человек, мог бы создать то, что они создавали в мелодиях и словах? И много ли радости в любви, если в нее не могут вложить всю поэзию, всю музыку неба и земли! А они умели свести женщину с ума чарами песен и слов. Да, быть может, в нашей страсти было больше мечты, чем действительности, но такая мечта уносит за облака, а действительность всегда тянет вниз, к земле. Если другие и любили меня сильнее, чем они, то лишь через них двоих я познала, постигла любовь и преклонилась перед нею!
И вдруг она заплакала.
Она плакала беззвучно, слезами отчаяния.
Я делал вид, будто ничего не замечаю, и смотрел вдаль. Через несколько минут она заговорила:
– Видите ли, сударь, почти у всех людей вместе с телом стареет и сердце. А у меня не так. Моему жалкому телу шестьдесят девять лет, а сердцу – все еще двадцать. Вот почему я живу в одиночестве, среди цветов и воспоминаний.
Настало долгое молчание. Она успокоилась и сказала, уже улыбаясь:
– Право, вы посмеялись бы надо мною, если б знали… если б знали, как я провожу вечера… в хорошую погоду!.. Мне самой и стыдно и жалко себя.
Сколько я ни упрашивал, она больше ничего не захотела сказать. Наконец я встал, собираясь откланяться.
Она воскликнула:
– Уже?
Я сослался на то, что должен обедать в Монте-Карло, и тогда она робко спросила:
– А не хотите ли пообедать со мной? Мне это доставит большое удовольствие.
Я тотчас согласился. Она пришла в восторг, позвонила горничной, отдала распоряжения, а после этого повела меня осматривать дом.
Из столовой дверь выходила на застекленную веранду, уставленную растениями в кадках; оттуда была видна вся длинная аллея апельсиновых деревьев, убегавшая вдаль до самого подножия горы. Скрытое зеленью удобное низкое кресло указывало, что старая актриса частенько приходит посидеть здесь.
Затем мы отправились в сад полюбоваться цветами. Спускался тихий вечер, мягкий, теплый вечер, в воздухе струились все благоухания земли. Совсем уже смеркалось, когда мы сели за стол. Обед был вкусный, за столом мы сидели долго и стали друзьями, ибо она почувствовала, какая глубокая симпатия к ней пробудилась в моем сердце. Она выпила немного вина – «с наперсток», как говорили когда-то, и стала доверчивее, откровеннее…
– Пойдемте посмотрим на луну, – сказала она. – Милая луна!.. Обожаю ее. Она была свидетельницей самых живых моих радостей. И мне кажется, что теперь в ней таятся все мои воспоминания; стоит мне посмотреть на нее, и они тотчас воскресают. И даже… иногда… вечерами я балую себя красивым… зрелищем… очень, очень красивым. Если бы вам сказать… Да нет, вы бы посмеялись надо мной… Нет, не скажу… не могу… нет, нет…
Я принялся упрашивать:
– Полноте! Что вы! Расскажите. Обещаю вам, что не буду смеяться! Даю слово! Ну, пожалуйста.
Она колебалась. Я взял ее руки, жалкие, сухонькие, холодные ручки, и поцеловал одну и другую несколько раз подряд, как это делали когда-то «они». Она была тронута. Она колебалась.
– Так обещаете не смеяться?
– Честное слово!
– Ну, хорошо, идемте.
Она встала, и когда слуга, неуклюжий юнец в зеленой ливрее, отодвигал ее кресло, она что-то сказала ему на ухо быстрым шепотом.
Он ответил:
– Слушаю, сударыня. Сию минуту.
Она взяла меня под руку и повела на веранду.
Аллея апельсиновых деревьев в самом деле была чудесна. Луна уже взошла, большая, круглая луна, и протянула по середине аллеи длинную полосу света, падавшего на желтый песок меж круглых и плотных крон темных деревьев. Деревья стояли все в цвету, и ночь была напоена их сильным и сладким ароматом. А в черной листве порхали тысячи крылатых светляков, огненных мух, похожих на звездные зернышки.
Я восхитился.
– О, какая декорация для любовной сцены!
Она улыбнулась.
– Ведь правда, правда? Сейчас вы увидите.
Она усадила меня рядом с собой. И, помолчав, сказала тихонько: