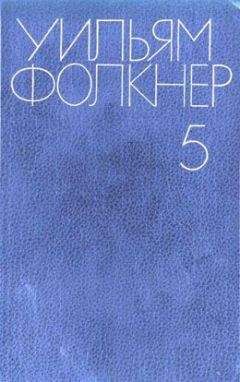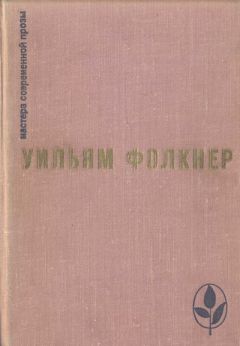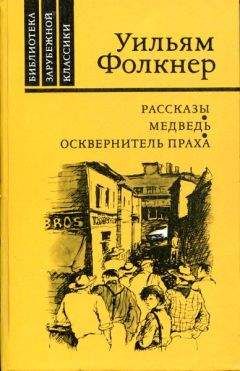Уильям Фолкнер - Особняк
— Как будто эта дорога прямо идет, через Джефферсон?
— Да, — сказал негр. — А там можно свернуть на Дельту.
— Оно и верно. А далеко еще до города?
— Восемь миль, — сказал негр. Уж милю-то он умел отмерить и без всяких столбов, вот семь, потом шесть, потом пять, а по солнцу прошел только час после полудня; вот уже четыре мили, длинный спуск, внизу — пересохший ручей, и тут он сказал:
— Вот напасть, выпустите-ка меня у мостика. Не успел сбегать утром. — Негр притормозил грузовик у мостика. — Спасибо, — сказал Минк, — дальше уж я пешком пойду. По правде говоря, не хотел бы я попасться на глаза этому своему доктору, увидал бы он, что я на грузовиках езжу, наверно, содрал бы с меня лишний доллар.
— Я вас подожду, — сказал негр.
— Нет, нет, — сказал Минк. — Вам надо поспеть на очистку и домой вернуться засветло. Где ж у вас время? — Он вышел из кабины и сказал, по незапамятному сельскому обычаю, вместо благодарности: — Сколько я вам должен? — И негр ответил по тому же обычаю:
— Ничего. Мне все равно по пути.
— Премного обязан, — сказал Минк. — Только доктору ни слова, ежели он вам попадется. Может, встретимся в Дельте.
И грузовик уехал. Дорога сразу опустела. Достаточно немного отойти в сторону, и его не будет видно. Ежели только возможно, лучше, чтоб никто не слышал этот пробный выстрел. Он сам не знал, зачем ему это: он не мог бы выразить словами, что после тридцати восьми лет жизни на виду, на людях, ему теперь хочется, ему необходимо ощутить каждую крупицу уединения, которую давала свобода; и потом до темноты оставалось еще часов пять-шесть и примерно столько же миль, и он шел сквозь чащу — шиповник, кипарисы, ивы — по дну высохшего ручья с четверть мили, как вдруг остановился в радостном удивлении, почти в восторге. Он увидал над лощиной железнодорожный мостик. Теперь он не только понял, как добраться до Джефферсона, не рискуя повстречать людей, которые своим привычным йокнапатофским чутьем сразу угадали бы, кто он такой и что намерен делать, — теперь он знал, чем занять время до темноты, когда можно будет идти дальше.
Ему казалось, будто за эти тридцать восемь лет он ни разу не видал железной дороги. Правда, по одну сторону колючей проволоки, окружавшей Парчмен, шел железнодорожный путь, и, насколько он помнил, поезда проходили там ежедневно. А иногда команды заключенных под конвоем отправляли на какие-нибудь простые строительные или ремонтные работы недалеко от железной дороги, и там он тоже видал поезда, проходившие по Дельте. Но хотя колючей проволоки и не было, смотрел он на них из тюрьмы; он видел эти поезда, он смотрел на них, но они были свободными и потому чуждыми, они мчались, они существовали на воле и оттого казались нереальностью, миражем, химерой, без прошлого и будущего, они даже никуда не шли, потому что пункты их назначения для него не существовали: только секунда, миг движения — и все, будто их не было. Но теперь стало иначе. Сам свободный, он мог теперь смотреть, как они свободно мчатся, теперь он был такой же, как они, даже чем-то связан с ними: им — лететь, мчаться в дыме, в гуде, в пространстве, ему — смотреть на них, вспоминать, как тридцать восемь или сорок лет назад, как раз перед тем, как ему попасть в Парчмен, с ним случились какие-то злоключения в делах, он не помнит какие, но, в общем, так бывало всю жизнь: вечно его настигала, преследовала какая-нибудь незадача, постоянная обида, несправедливость, вечно ему приходилось все бросать, чтобы справиться с этой бедой, осилить ее, а бороться было нечем, никаких средств, никаких орудий, даже времени он выкроить не мог из-за беспрерывной, неустанной работы, которой он кормил себя и свою семью; вот такая тяжелая минута, а может быть, и просто желание увидеть поезд и привели его тогда за двадцать две мили от Французовой Балки. Из-за чего-то ему пришлось провести ночь в городе, он уже не помнил почему, и он пошел на вокзал посмотреть, как проходит пассажирский поезд на Новый Орлеан, — на шипящий паровоз, на освещенные вагоны, и в каждом — нахальный, заносчивый негр-проводник, в одном вагоне люди ужинают, им прислуживают другие негры, а потом пассажиры разойдутся по спальным вагонам, где их ждут настоящие постели; поезд стоит недолго, — и уже его нет: длинный, наглухо запертый кусок другого мира пронесся по темной земле, а бедняки в комбинезонах, вроде него, вырвав свободную минуту, стоят и глазеют, но ни сам поезд, ни люди в нем не знают, смотрит ли кто на них или нет.
Но тогда он стоял и смотрел свободно, как все люди, хоть и был на нем старый комбинезон, а не бриллиантовые перстни; и сейчас он тоже был на свободе, пока вдруг не вспомнил, что он узнал в Парчмене еще одну вещь за те долгие томительные годы, когда он, готовясь выйти из тюрьмы, должен был собирать всякие сведения, мелочи, потому что иначе, когда подойдет тот день, день свободы, вдруг может оказаться поздно, вдруг окажется, что он чего-то не знает; и там он узнал, что с 1935 года пассажирские поезда через Джефферсон не ходят и что железная дорога (которую старый полковник Сарторис, не тот банкир, прозванный полковником, а его отец, настоящий полковник, командовавший местным отрядом в давнишней войне Севера и Юга, выстроил, и, по рассказам стариков, которых он, Минк, еще знал и помнил, это было самым большим событием в Йокнапатофском округе) должна была связать Джефферсон и всю округу с Мексиканским заливом с одной стороны и с Великими Озерами с другой, а теперь она превратилась в заброшенную, заросшую сорняками местную ветку, по которой ходят всего лишь два местных товарных поезда, да и то не каждый день.
Но в таком случае именно эта заброшенная колея могла привести его в город без всяких помех, тут уж никто не нарушит его уединение, его свободу, заработанную с таким трудом в течение тридцати восьми лет; и он повернулся и пошел назад, прошел шагов сто, потом остановился; вокруг никого не было, только густая чаща, пронизанная тишиной сентябрьского дня. Он вынул револьвер. «Уж больно похож на ящерку», — подумал он, и сначала ему показалось, что это смешно и забавно, но вдруг он понял, что в нем говорит отчаяние; теперь он знал, что эта штука не может, не будет стрелять, и когда он, повернув барабан, чтобы первый из трех патронов лег под боек, взвел курок, и прицелился в ствол кипариса футах в четырех-пяти, и нажал спуск, и услыхал негромкий пустой щелк, единственным его чувством было чувство спокойной правоты, почти что превосходства оттого, что он оказался прав, оттого, что он имел неоспоримое право сказать: «Так я и знал», — и вдруг, хотя он даже не заметил, что снова взвел курок, не понял, куда целится, эта штука дернулась и загремела неожиданно со вспышкой пламени из слишком короткого дула; и только тут, чуть не упустив момент, он отчаянным судорожным движением удержал руку, чтобы помимо воли не взвести курок и не истратить третий, последний патрон. Но он спохватился вовремя, высвободил большой и указательный пальцы и, перехватив левой рукой револьвер, отнял его у правой, чуть не оставшись с пустым и бесполезным оружием в руках — после таких стараний, таких поисков, такой траты времени. «Может, последний тоже не выстрелит», — подумал он, но только на миг, на секунду, и сразу, тут же: «Нет, брат. Должен выстрелить. Должен — и все. Другого выхода нет. Зря я беспокоюсь. Старый Хозяин наказать наказывает, а шуток Он не шутит».
И теперь (по солнцу было часа два, не больше, до заката осталось еще, по крайней мере, часа четыре) он мог еще раз рискнуть лечь на землю в этот поздний, в этот последний час, да к тому же прошлую ночь он провел в грузовике, так что одно очко было в его пользу. И он повернул к мостику, прошел под ним, на случай, если кто-нибудь, услышав выстрел, решит взглянуть, что случилось; потом нашел ровное местечко за стволом дерева и прилег. И сразу почувствовал медленное, потаенное, ищущее прикосновение, когда старая, долготерпеливая, непоспешная земля сказала себе: «Вот так так, будь я неладна, кто-то уже улегся, как говорится, у меня на пороге». Но ему было все равно, ненадолго он мог рискнуть. Можно было подумать, что у него есть будильник; он проснулся точно в ту минуту, когда сквозь просветы в листьях стало видно, как последние лучи солнца уходят, гаснут в небе, и в уходящем свете он едва смог выбраться из чащи к железнодорожному пути и выйти на него. Здесь было светлее, последнюю милю до города его провожал закат, пока совсем не угас, уступив место темноте, пронизанной скупым светом городских окраин, а потом показалась первая тихая городская улочка, неподвижная рука семафора на переезде и единственный одинокий фонарь у перекрестка, где, увидев его, негритянский мальчишка на велосипеде успел вовремя затормозить и остановиться.
— Здорово, приятель, — сказал Минк и спросил, как обычно спрашивали старики негры, не «где тут живет», а «где тут жительствует мистер Флем Сноупс».
В эти дни, точнее говоря, с прошлого четверга, по вечерам, примерно с половины десятого, с десяти часов, к Флему Сноупсу был приставлен телохранитель, хотя, кроме жены телохранителя, ни один белый человек в Джефферсоне, включая самого Сноупса, об этом не знал. Звали этого стража Лютер Биглин, раньше, до последних выборов шерифа, он жил в деревне, натаскивал охотничьих собак и сам занимался промысловой охотой и фермерством. Но его жена приходилась племянницей мужу сестры жены шерифа Ифраима Бишопа, а мать была сестрой местного политического босса, чья железная длань управляла тем участком округа (как старый Билл Уорнер правил своим участком во Французовой Балке), где Бишоп был избран шерифом. Поэтому Биглин был назначен тюремщиком, пока Бишоп занимал пост шерифа. Впрочем, это назначение определенно отличалось от обычных назначений по протекции. Чаще всего бывает, что человек, назначенный на такой малый пост в служебной иерархии, не вкладывает в свою работу никакого интереса и только занимает должность, хоть он к ней, в сущности, не стремился и попал на нее исключительно под давлением своей родни, чтобы вытеснить представителя другой политической партии; но Биглин относился к своей работе с той страстной, восторженной преданностью и верой в непогрешимость, честность и могущество своего родственника, шерифа, как, скажем, простой капрал в армии Мюрата относился к символическому маршальскому жезлу в руках своего командира. Он был не только честный малый (даже в браконьерской охоте на оленей, уток и перепелов он мог нарушить закон, но никогда не нарушал слова), он был и храбрый человек. После Пирл-Харбора, несмотря на то что его дядя мог бы найти или придумать — и непременно придумал бы, — как освободить его от военной службы, Биглин добровольно пошел в морскую пехоту, где, к вящему своему удивлению, узнал, что по военным стандартам его правый глаз считается почти незрячим. Сам он этого не замечал. Читал он мало, больше слушал радио, а в стрельбе был одним из лучших во всей округе, хотя стрелял размашисто, неэкономно, неуклюже, — он был левша, целился с левого плеча; за время, что он занимался тремя предыдущими своими профессиями, он расстрелял больше патронов, чем любой другой житель; а к тридцати годам он уже сменил два комплекта стволов, причем его дефект пошел ему на пользу, потому что ему не нужно было учиться не моргать глазами, чтобы видеть мушку и цель одновременно или прищуривать правый глаз для точной наводки. И вот он узнал (не в порядке любопытства, а в порядке кровных бюрократических связей), даже раньше, чем об этом узнал шериф, потому что он, Биглин, сразу в это поверил, — что с того часа, как Минка Сноупса наконец выпустили из каторжной тюрьмы, его угрозы родичу не только нельзя забыть, но даже пренебрегать ими нельзя, как склонен был сделать его патрон и начальник.