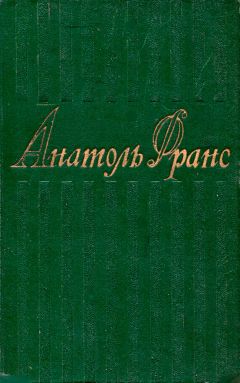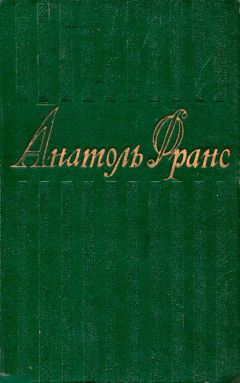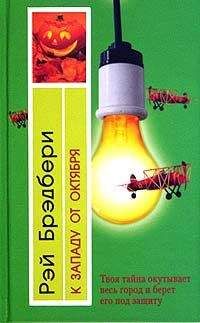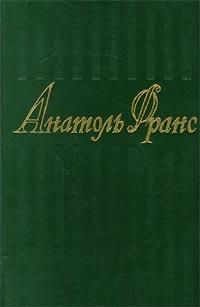Анатоль Франс - 1. Стихотворения. Коринфская свадьба. Иокаста. Тощий кот. Преступление Сильвестра Бонара. Книга моего друга.
Пока мы разговаривали, г-жа де Габри хлопотала, чтобы уложить спать свою гостью. Я видел, как по коридору прошла горничная, перекинув через руку простыни, надушенные лавандой.
— Вот нежный и благородный запах, — заметил я.
— Как же иначе? Мы ведь деревенские жители, — ответила мне г-жа де Габри.
— О! Если бы и я мог стать деревенским жителем! — ответил я. — Удастся ли когда-нибудь и мне вдыхать, подобно вам в Люзансе, запахи полей, живя под кровлей, затерявшейся в листве! А если это пожеланье слишком притязательно для старика, оканчивающего жизнь, я хочу по крайней мере, чтоб мой саван был надушен лавандой, как эти простыни.
Мы условились, что наутро я приду к ним завтракать. Однако мне строго запретили являться раньше двенадцати. Жанна, обнимая меня, молила не отвозить ее обратно в пансион. Мы расстались растроганные и смущенные.
У себя дома, на площадке лестницы, я застал Терезу в состоянии тревоги, доводившей ее до ярости. Она высказывала ни много ни мало, как мысль о том, чтобы впредь запирать меня на ключ.
Какую ночь провел я! Ни на одно мгновенье я не сомкнул глаз. То я смеялся, как мальчишка, удаче моей проделки, то видел с неизъяснимою тоской, как меня тащат в суд и как, сидя на скамье подсудимых, я держу ответ за преступленье, которое я совершил столь естественно. Я был в ужасе, и все же не чувствовал ни укоров совести, ни сожалений. Солнце заглянуло ко мне в комнату и весело играло на изножии кровати, а я сотворил молитву:
— Боже, создавший небо и росу, как сказано в «Тристане»[211], суди меня в праведности твоей не по деяниям, а по замышлениям моим, праведным и чистым, — и я воскликну: «Слава в вышних богу, и на земле мир и в человецех благоволение! В руки твои предаю похищенное мною дитя! Соверши то, чего не мог совершить я: сохрани его от всех врагов. И да благословенно будет имя твое!»
29 декабря
Войдя к г-же де Габри, я увидел Жанну совсем преобразившейся.
Не взывала ли она, как я, при первых утренних лучах к тому, кто создал небо и росу? Сладость душевного покоя была в ее улыбке.
Госпожа де Габри позвала Жанну, чтобы закончить ее прическу, ибо милая хозяйка захотела уложить собственноручно волосы доверенному ей ребенку. Придя немного ранее условленного часа, я помешал завершить ее прелестный туалет. В наказание меня заставили одного ждать в гостиной. Вскоре ко мне присоединился г-н де Габри. Он, видимо, пришел из города, ибо на лбу его остался след от шляпы. Лицо выражало радостное оживленье. Я не счел удобным задавать ему вопросы, и мы все вместе пошли завтракать. Когда слуги кончили подавать на стол, г-н Поль, приберегавший свой рассказ до кофе, сказал нам:
— Итак, я был в Левалуа.
— Вы видели мэтра Муша? — оживленно спросила г-жа де Габри.
— Нет! — ответил он, приглядываясь к нашим лицам, выказавшим разочарованье.
Насладившись пристойное время нашим беспокойством, этот чудесный человек добавил:
— Мэтра Муша больше нет в Левалуа. Мэтр Муш покинул Францию. Послезавтра будет неделя, как он улепетнул, прихватив с собою деньги своих клиентов, — довольно кругленькую сумму. Контора оказалась запертой. Об этом событии мне рассказала его соседка, с немалым количеством проклятий и всяких пожеланий. Нотариус сел в поезд, отходивший в семь часов пятьдесят пять минут, и сел не один: он увез с собой дочь местного парикмахера. Этот факт мне подтвердил и полицейский комиссар. Поистине, мог ли мэтр Муш убраться более кстати?! Задержись он на неделю — и в качестве представителя общества он потянул бы вас, господин Бонар, в суд как преступника. Теперь нам нечего бояться. За здоровье мэтра Муша! — воскликнул он, наливая арманьяк.
Мне бы хотелось жить подольше, чтоб долго помнить это утро. Мы сидели вчетвером в большой белой столовой за столом из навощенного дуба. У г-на Поля веселость здоровая, чуть даже грубоватая, и он пил арманьяк большими глотками. Молодчина! Г-жа де Габри и мадемуазель Александр мне улыбнулись, и эта улыбка вознаградила меня за мои страдания.
Войдя к себе в квартиру, я подвергся самым язвительным упрекам Терезы, которая отказывалась понимать мой новый образ жизни. Я, по ее мнению, выжил из ума.
— Да, Тереза, я безумный старик, а вы безумная старуха. Все это верно. Да поможет нам бог, Тереза, даровав нам новые силы, ибо у нас есть новые обязанности. Но дайте полежать мне на этом канапе, стоять я больше не могу.
15 января 1877 года
— Здравствуйте, господин Бонар, — говорит Жанна, отворяя мне дверь, в то время как запоздавшая Тереза ворчит во мраке коридора.
— Мадемуазель, прошу вас величать меня торжественно моим званием и говорить мне: «Здравствуйте, мой опекун».
— Все устроилось? Уже? Какое счастье! — восклицает Жанна, хлопая в ладоши.
— Устроилось, мадемуазель, в городском присутствии, перед мировым судьей, и с сего дня вы подчиняетесь моей власти… Вы смеетесь, моя питомица? Я вижу по вашим глазкам: какая-то сумасбродная мысль мелькает в вашей головке. Новое чудачество?
— О нет, господин… опекун. Я поглядела на ваши седые волосы. Они вьются по полям вашей шляпы, как жимолость по балкону; они очень красивы, и так мне нравятся.
— Сядьте, моя питомица, и, если можно, не говорите больше пустяков; у меня с вами будет серьезный разговор. Выслушайте меня. Я думаю, вы не стремитесь вернуться к мадемуазель Префер?.. Нет. А что бы вы сказали, если бы для завершения вашего образования я вас оставил здесь до… а до чего? Ну, как говорится, навсегда.
— О! — воскликнула она, покраснев от радости.
Я продолжал:
— Там, позади, есть маленькая комнатка, и Тереза приготовила ее для вас. Вы замените там старинные книги, как день сменяет ночь. Пойдите с Терезой посмотреть, годится ли комната для жилья. С госпожой де Габри мы сговорились, что уже сегодня вы ляжете спать в той комнате.
Она бросилась туда, но я вернул ее.
— Слушайте дальше, Жанна. До сей поры вам удавалось быть желанной гостьей в глазах моей домоправительницы, хотя по своему нраву она, как все старики, довольно нелюдима. Считайтесь с ней. Я сам почел за должное считаться с ней и терпеть ее выходки. Советую вам, Жанна, уважать ее. Говоря так, я не забываю, что она служанка моя и ваша, но этого она не забудет и сама. А вы должны уважать в ней ее почтенный возраст и честную душу. Это скромное существо долго жило достойным образом и с этим свыклось. Терпите непреклонность этой прямой души. Умейте приказывать; она сумеет повиноваться. Ступайте, дочь моя. Устройте вашу комнату, как вам покажется удобным для труда и отдыха.
Направив Жанну таким напутствием по стезе хорошей хозяйки, я принялся за чтение одного журнала, хотя руководимого и молодыми людьми, но отличного. Тон его резкий, но дух ревностный. Статья, прочитанная мной, по своей решительности и твердости превосходит все, что писалось в дни моей юности. Поль Мейер[212], автор статьи, смело клеймит каждую ошибку.
Мы не были такими безжалостными судьями. Наша снисходительность шла далеко. Она была готова хвалить заодно и ученого и невежду. А надо уметь порицать, это суровый долг. Я вспоминаю маленького Раймона (так его звали). Он ничего не знал, был крайне ограничен, но очень любил свою мать. Мы старались не выдавать невежество и тупость такого хорошего сына, и благодаря нашей снисходительности маленький Раймон стал академиком. Матери его уже не было в живых, а почести сыпались на него дождем. Он стал всемогущ, к великому ущербу своих собратий и науки. Но вот пришел мой юный друг по Люксембургскому саду.
— Добрый вечер, Жели. Вид у вас сегодня радостный. Что с вами произошло, дорогой мой юноша?
Произошло то, что он весьма прилично защитил диссертацию и числится на хорошем счету. Вот о чем ставит он меня в известность, добавляя, что мои работы, когда о них шла речь на этом заседании, вызывали у профессоров безоговорочные похвалы.
— Вот и отлично, Жели; я счастлив, что моя старая репутация соединяется с вашей молодой известностью. Вы знаете, я живо интересовался вашей диссертацией, но за домашними делами забыл, что защищали вы ее сегодня.
Мадемуазель Жанна как раз явилась осведомить его насчет этих домашних дел. Шалунья впорхнула легким ветерком в обитель книг, воскликнув, что ее комната — просто чудо! Увидав Жели, она густо покраснела. Но от судьбы своей не уходил еще никто.
Я подметил, что оба в этот раз застенчивы и не разговаривают друг с другом.
Тише, Сильвестр Бонар! Наблюдая за своей питомицей, вы забываете, что теперь вы опекун. Вы им являетесь с сегодняшнего утра, и новая должность уже налагает на вас щекотливые обязанности. Бонар, вы обязаны ловко устранить этого молодого человека, вы обязаны… Э! разве я знаю, что обязан делать?..