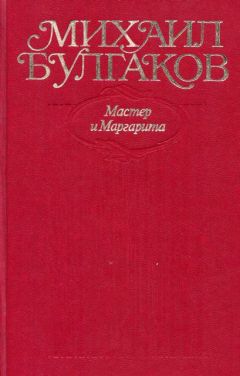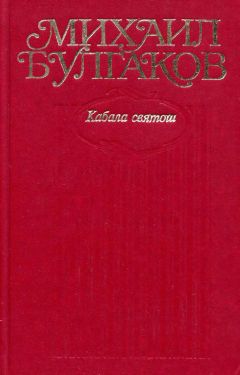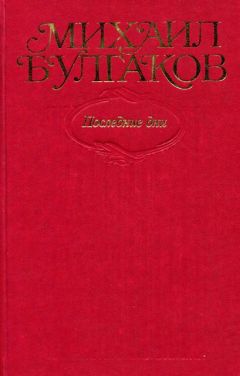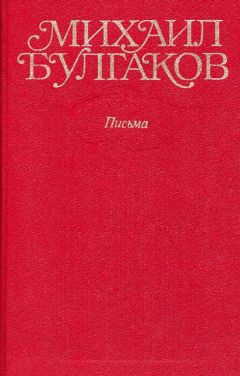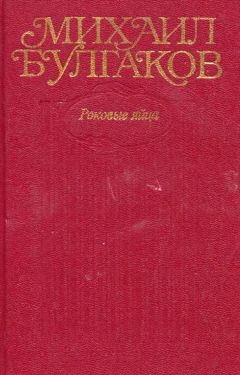Михаил Булгаков - Том 8. Театральный роман
Было совсем светло, когда больной и постаревший Рюхин вышел из троллейбуса и оказался у подножия Пушкина. С бульвара тянуло свежестью, к утру стало легче. Злобными и горькими глазами Рюхин поглядел на Пушкина и почему-то подумал так: «Тебе хорошо!»
Он поморщился и побрел к дому тетки. Ресторан торговал до четырех. На веранде, где еще горели некоторые лампионы, раздражая своим неуместным светом при свете рождающегося дня, почти никого не было. В углу сидящий режиссер Квант поил даму «Абрау-Дюрсо».
Арчибальд Арчибальдович, вечно бессонный, встретил Рюхина приветливо. Не будь Рюхин так истерзан, он получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было, придумывая интересные подробности, описывая удивительную лечебницу. Сейчас он почувствовал, что ему не до этого, а кроме того, как он ни был ненаблюдателен и пуст, впервые всмотрелся в лицо пирата и понял, что тот, хоть и спрашивает о Поныреве и даже склоняется к Рюхину, держась за спинку стула, и даже сказал: «Ай, ай», — в ответ на слова Рюхина «Мания фурибунда», что он совершенно не интересуется судьбой Понырева, и не только не интересуется, но и презирает и Понырева, и самого Рюхина. «И молодец! И правильно», — с циничной самоуничтожающей злобой помыслил Рюхин и сказал бойким голосом:
— Арчибальд Арчибальдович, водочки мне…
Пират сделал понимающие глаза, скомандовал что-то, и через полчаса, когда никого из посетителей уже не было на веранде, в утреннем рассвете сидел Рюхин в одиночестве. Мрачные мысли его задавило дурманом, он с аппетитом закусывал рыбцом. День разгорался над городом, край неба золотило.
Глава 7
Нехорошая квартира
Если бы Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!», Степа ответил бы чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною, что хотите, но я не встану».
Не то что встать, ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что если откроет, то тут же сверкнет молния и голову ему разнесет на куски.
В голове этой гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и при этом тошнило, причем казалось, что тошнит от звуков какого-то патефона. Степа старался что-то припомнить, но припомнить мог только одно, что, кажется, вчера неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и делал попытки поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день (то есть, значит, сегодня) придет к ней в гости днем. Дама от этого отказывалась, говорила: «Нет, меня не будет дома», а Степа настаивал, говорил: «А я вот возьму и приду».
Ни какая это была дама, ни который час сейчас, ни даже какое число и, что хуже всего, где он находится, Степа понять не мог.
Прежде всего он постарался узнать хотя бы последнее. Для этого пришлось разлепить слипшиеся веки одного глаза. Степа так и сделал, узнал в полутьме итальянское окно и понял, что он лежит у себя, то есть в бывшей ювелиршиной спальне, и тотчас веки сомкнул, потому что так ударило в голову, что он застонал
Дело было вот в чем: Степа Лиходеев, директор театра «Кабаре», того самого, что открылся недавно в помещении бывшего цирка, в утро, последовавшее за тем страшным вечером, когда убило Мирцева, и ночью, когда Понырева отвезли в лечебницу, очнулся у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с Мирцевым на Садовой улице в громадном пятиэтажном доме.
Надо сказать, что квартира эта пользовалась, и давно уже, если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года назад ее занимала вдова покойного ювелира де-Фужере Анна Францевна, пятидесятилетняя почтенная и деловая дама, сдававшая три комнаты из пяти двум жильцам: Беломуту, кажется, служащему в банке, и другому, фамилия которого утрачена и которого звали в доме по его профессии — «финансист».
И вот именно два года назад произошло действительно необъяснимое событие. Однажды в выходной день пришел милиционер и сказал финансисту, что того просят на одну минуту зайти в милицию в чем-то расписаться. Финансист ушел, сказав Анфисе, что если кто-нибудь будет звонить, чтобы она сказала, что он вернется через полчаса. Но не вернулся не только через полчаса, он вообще не вернулся. Хуже всего было то, что с ним пропал и милиционер.
Суеверная и глупая Анфиса так и заявила, что это колдовство. Колдовству же стоит только начаться, а уж там его ничем не остановишь. Финансист пропал в понедельник, а в пятницу исчез Беломут. Тот при иных обстоятельствах. Именно, заехала за ним, как обычно, утром машина и увезла его на службу, а назад никого не привезла и сама не приехала. Допустим, что была это колдовская машина, как и тут утверждала Анфиса.
Но вот за самой Анной Францевной никто не приходил и машина никакая не заезжала, а просто Анна Францевна, изнервничавшаяся, как она рассказывала, с этим исчезновением двух очень культурных жильцов, решила поправить свои нервы и для этого съездить на два месяца в Париж к сестре. Подав соответствующее заявление, Анна Францевна сильно хлопотала по устройству каких-то житейских дел. Ежедневно много звонила по телефону, много ездила по Москве, в естественном и радостном волнении, что вскоре увидит и обнимет сестру, с которой не виделась четырнадцать лет. А увидеться должна была, потому что заявление Анны Францевны было встречено очень хорошо, как она говорила, все показатели для поездки были самые благоприятные. И вот в среду — опять-таки постный день — Анна Францевна вышла из дому, чтобы повидаться со знакомой, которая хотела приобрести у нее каракулевое манто, ненужное Анне Францевне, и не вернулась.
Тут Анфиса про колдовство уже ничего не говорила, а впала в тревогу и даже в отчаяние, в котором ей, впрочем, пришлось пребывать только двенадцать часов. Хозяйка ее пропала в полдень, а в полночь приехали в квартиру де-Фужере три неизвестных и, пробыв в ней до утра, отбыли, увезя с собою и Анфису. После чего никто ни из четырех жильцов квартиры, ни из этих приехавших никогда более не возвращался на Садовую улицу, в квартиру № 50. Да и возвратиться в нее нельзя было, потому что последние навестившие ее, уезжая, запечатали двери ее сургучными печатями.
В доме потом рассказывали всякие чудеса, вроде того, что будто бы под полом в кухне заколдованной квартиры нашли какие-то несметные сокровища и что якобы сама Анфиса носила на груди у себя, никогда не снимая, маленький мешочек с бриллиантами и золотом и прочее. Фантазия у жильцов больших домов, как известно, необузданная, а врать про своих ближних каждому сладко.
Но как бы там ни было, квартира простояла запечатанной только неделю, после чего в нее с ордерами и въехали в две комнаты, которые налево от коридора и ближе к кухне, директор кабаре Лиходеев, а в три, в одной из которых был когда-то провалившийся сквозь землю финансист, Мирцев, оба холостые, и зажили.
Итак, Степа застонал, и то, что он определил свое местонахождение, ничуть ему не помогло, и болезнь его достигла наивысшего градуса. Он вспомнил, что в квартире должна быть сейчас приходящая домработница Груня, хотел позвать ее, чтобы потребовать у нее пирамидону, но с отчаянием сообразил, что никакого пирамидону у Груни нет, конечно, и не позвал. Хотел крикнуть, позвать Мирцева, сказать ему, что накануне отравился чем-то, попросить пирамидону, слабо простонал — «Мирцев!» Никакого ответа не получил. В квартире стояла полная тишина.
Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках. «Интересно знать, брюки на мне есть?» — подумал несчастный и трясущейся рукою провел по бедру, но не мог определить — не то в брюках, не то нет.
Наконец, видя, что он брошен и совершенно одинок, Степа решил, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило, самому себе помочь, для этого прежде всего открыть глаза и сесть. И Степа разлепил опухшие веки и увидел прежде всего в полумраке затемненной спальни пыльное зеркало в ювелиршином трюмо, а в этом зеркале самого себя с торчащими в разные стороны волосами, со щеками, покрытыми черной щетиной, с заплывшими глазами, без единой складки на лице, в сорочке, кальсонах и носках.
А рядом с трюмо в кресле увидел неизвестного, одетого в черное. В затемненной шторами спальне лицо неизвестного было плохо видно, и показалось Степе только, что лицо это кривое, но что неизвестный был в берете, в этом сомневаться не приходилось.
Тут Степа поднялся на локтях, сел на кровати и, сколько мог, вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. Это было естественно, потому что, каким образом и зачем в интимную спальню проник посторонний человек в черном берете, не только больной, но, пожалуй, и здоровый не объяснил бы.
Молчание было нарушено неизвестным, произнесшим тяжелым басом и с иностранным акцентом следующие слова:
— Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!