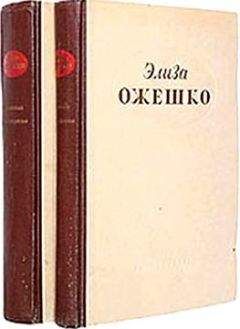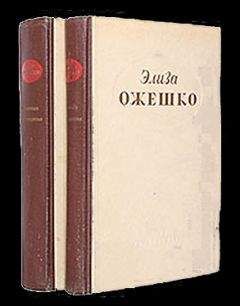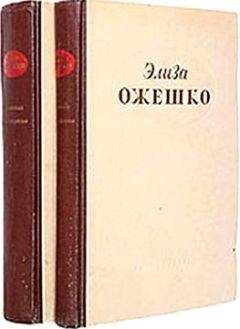Элиза Ожешко - Bene nati
Тут она обернулась и случайно взглянула на Габрыся. Прислонясь к стене, он смотрел на нее, как на икону, и, одобрительно кивая головой, тихонько посмеивался, но не язвительно, как прежде, а с видимым наслаждением. Но ей уже было не до того: вокруг нее бушевали страсти, то была поистине оргия слов.
Протест ее вызвал взрыв негодования, и все, кроме Габрыся и молоденькой невестки, повскакали со своих мест и, то бегая по комнате, то снова усаживаясь, что-то говорили и кричали. Поднялся шум, который уже нельзя было назвать разговором и в, котором давешние колкости и насмешки сменились попреками, укорами и угрозами. В вину, правда, ставились только две вещи: что Ежи Хутко мужик и что у него нет земли. Мошенник, висельник и каторжник были случайными, ни на чем не основанными оскорблениями, к которым возвращались после долгих перерывов, да и то в разгар бешенства. Что же касается тех двух упреков, которые подтверждались действительностью, то одни придавали большее значение одному, а другие другому. Как бы то ни было, все это сливалось в единое целое, которое разрасталось, принимая все более позорящие и угрожающие формы.
Что это за человек, у которого нет клочка земли? Бродяга, попрошайка, нищий с паперти! Нашел хорошее место, получает большое жалованье, называется старшим лесничим? Бабья болтовня! Нашел хорошее место! Что же, не могут его уволить? А ну — уволят? Тогда котомку за плечи и ступай куда глаза глядят. Найдет другое? Как бы не так! Только его все и ждут! Уж известно, какие теперь места в наше время! А если не найдет, так и живи в местечке да за три гроша тащи что ни есть в заклад, чтобы купить кусок хлеба. Добро бы еще одним мучиться, а дети? Будет их душ пять или шесть, а то и восемь, у таких наверняка будет восемь — их кормить надо да одевать, а на какие деньги, если руки не к чему приложить? А случись война, и его в солдаты возьмут? Другие женщины, хоть и без мужьев, так на своей земле да в своих хатах остаются, а пани Хуткова что станет делать? Тоже в услужение пойдет? Что и говорить, завидная доля! Видно, затем она и родилась, чтоб в дворовых девках коров доить да чужую грязь возить, раз такую долю себе выбрала! Только с ребятишками и в дворовые девки никто не возьмет. Придется брату да сестрам в ноги кланяться, чтобы взяли к себе, но и они не дураки, а тем, кто уши затыкал да не слушал их уговоров и запретов, и не подумают помогать. Раз она их ни во что не ставит, пусть сама и выходит из беды как знает, а потом хоть с голоду помирай, они и смотреть не станут. А какое унижение! Служба, какая бы ни была, она так и есть служба, а уж особенно когда нет своего угла и поневоле цепляешься за нее, как слепой за плетень. Лесничий или подлесничий — все не то, что хозяин в своем доме, хоть и в самом плохоньком. Велят ему быть лакеем — будет! Велят ему языком пыль с барских сапог лизать — и то будет! Все исполнит и все стерпит — и тумаки и всякое поношение, — только бы место не потерять да не пропасть, как собаке под забором. А что мужу, то и жене. Его стыд — ей срам. Впрочем, ему это и на роду писано — служить да все сносить, так оно искони с хамами бывало, но она-то чего ради заживо в могилу ложится? Видно, бог ее оставил или чорт попутал да еще сестричка с толку ее сбила.
Тут буря снова поднялась и с яростью обрушилась на Коньцову, которая уже несколько раз тщетно силилась вставить хоть слово. Теперь на нее посыпались упреки в том, что она позволяла сестре нивесть с кем заводить шашни, что она одна виновата во всем: зачем приглашала в дом этого голяка, зачем принимала его у себя и угощала? Мало того, брату, когда он ездил в город, она посмела прямо в глаза наговорить бог весть чего о великих достоинствах пана Хутки и о счастье, которое ждет с ним Салюсю. Ну, да что с нее спрашивать, если и себе она не нашла лучшего кавалера, чем сына какого-то мещанина, который прежде-то, может, улицы в городе подметал. Однако для себя-то у нее ума хватило, — не извольте беспокоиться! Сама она хоть и вышла за мусорщика, зато у него прибыльное дело и дом — одно заглядение, а сестру готова за нищего выдать, в слезах утопить и навеки в нужде загубить!
Коньцова была более мягкой и кроткой, чем нападавшие на нее сестры. Она защищалась, как могла, вступалась за Хутку и старалась оправдаться перед родней. Но, когда наступление на нее усилилось и Константы стал ей грозить, что она ответит перед богом за погибель сестры, Коньцова не стерпела обиды. Не помня себя от гнева, она закричала, что не затем приехала сюда, чтоб ее поносили, и что к такому обращению она не привыкла. Благодаря бога, у нее есть л свой дом, и муж, и должное уважение среди людей, так что подобной грубости она не хочет терпеть ни минуты дольше, а тотчас же велит запрягать лошадь, на которой приехала из города, и немедля едет к себе домой, к своему мужу и подобающему ей уважению.
Однако этого родные совсем не хотели: на самом деле все они Коньца уважали, Коньцову любили, а так как она ближе всех дружила с Салюсей, то была им теперь особенно нужна. Поэтому ее кое-как уломали и снова обрушились на Салюсю.
Пылая гневом, она стояла посреди комнаты, высоко подняв голову, и дерзко, едко, будто оса, бросалась во все стороны, чаще всего обращаясь к брату. В общем шуме можно было явственно различить только их два голоса: как в ожесточенном состязании в мяч, они перебрасывались быстрыми, разящими зарядами слов.
— Собака лает — ветер носит! Не знаешь, а болтаешь! Сперва узнай, а потом хули! — выходила из себя Салюся.
— Именно, знаю! Со всех сторон его разглядел и нигде ничего хорошего не нашел, — кричал в ответ Константы. — Ни шерсти, ни молока, ни рыба, ни мясо… хам — одно слово!
— Получше тебя! Хам, да образованный. Тебе такая образованность и во сне не снилась!
— Не поможет ворону мыло! Черного кобеля не отмоешь добела никакой образованностью!
— Раз ты такой барин, так и ищи себе барыню, а я для себя замуж выхожу, а не для тебя…
— Ха-ха-ха! Одно только горе, что не выйдешь.
— Это почему же?
— Потому что я не позволю!
— Я не маленькая! Мне двадцать три года, и никто ни велеть, ни запрещать мне не смеет!
— Послушай, Салюся, это палка о двух концах: либо ты по-моему сделаешь, и я тебя осчастливлю, либо гроша в приданое не дам, ни одной тряпки не дам, на порог не пущу.
— Меня и в одной рубашке возьмут, а на твой порог мои ноги не польстятся!
— С тобой говорить, что воду решетом носить!
— Ас таким, как ты, обидчиком, что только и знает куражиться, и вовсе говорить не стоит!
— А с хамом стоит?
— Глядя на вас двоих, пожалуй, его за пана, а тебя за хама сочтешь!
— Тьфу, собаки его заешь!
— Пусть бы я сквозь землю провалилась, прежде чем в этот дом приехала! — уже с тоской крикнула Салюся, закрыла лицо руками и, громко зарыдав, выбежала в полуоткрытую дверь боковушки.
Константы схватил шапку с окна и, задыхаясь от гнева, бросился во двор. Оставшиеся в горнице женщины вскочили с мест и побежали в боковушку вслед за Салюсей. Жалко ли им стало сестру? Или они почувствовали, что эту гордую девушку криком и злобой не возьмешь и нужно пуститься на другие средства? Но только за закрытой дверью боковушки вскоре послышались звонкие поцелуи, ласковые слова, таинственный шопот, причитания и вздохи. Зятья и двоюродный брат, тихо переговариваясь, также вышли во двор, и в горнице остался один Габрысь. В продолжение всей ссоры он ни на минуту не сводил глаз с Салюси, следил за каждым ее движением и после каждого произнесенного ею слова одобрительно кивал головой и улыбался, видимо, очень довольный. Не вмешиваясь ни одним словечком или движением в чересчур оживленный спор, он тем не менее принимал в нем очевидное и горячее участие. Теперь, когда в горнице стало тихо и пусто, он низко опустил голову и, обхватив руками колени, глубоко задумался. Руки у него были худые и мозолистые, лоб высокий, изборожденный множеством мелких морщинок, о преждевременности которых свидетельствовали черные, как смоль, волосы. Задумавшись, он оттопыривал губы, так что усы стояли торчком между ввалившихся щек, топорщась пучком густой и жесткой щетины. Думал Габрысь, должно быть, о чем-то невеселом: он качал головой, вздыхал и несколько раз взмахивал рукой не то с отчаянием, не то с пренебрежением, — казалось, он говорил про себя: "Ничего хорошего нет на свете!" или: "Все пустяки!" Очнулся он от своей задумчивости, лишь когда женщины все вместе вернулись в горницу и уселись за стол.
После разговора в боковушке они, видимо, помирились и были теперь в самых лучших и нежных отношениях. Они обнимались, шептались о чем-то и пересмеивались. Одна только Салюся не смеялась; она молчала и, хотя уже не сердилась и даже отвечала на поцелуи сестер, которые всячески старались ей угодить, но по ее нахмуренным бровям и надутым губкам видно было, что она расстроена и упорно думает о чем-то. Но, каковы бы ни были ее чувства, они не могли лишить ее молодого, здорового аппетита, разыгравшегося после долгой поездки. Сестры потчевали ее наперебой, и она принялась за сыр, потом за хлеб с маслом и колбасу, резала, намазывала, запивала молоком, которое принесла ей в кувшине Панцевичова; и хотя ела она со вкусом и даже проворно, ее не покидало выражение задумчивости и печали. Вдруг взгляд ее упал на Габрыся, и ее огорченное личико просияло дружелюбной улыбкой.