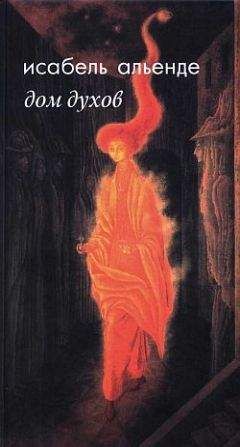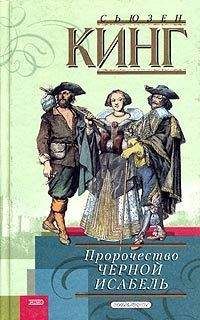Карлос Фуэнтес - «Чур, морская змеюка!»
— Но меня зовут Исабель, а не Изабелла. И вообще откуда вы меня знаете?
Джек сделал жест, в котором было и вдохновение, и великолепная небрежность, и даже снисходительная усталость.
— Изабелла… это звучит романтично; вы латиноамериканка. А вообще-то на «Родезии» есть список пассажиров.
— Все равно…
— Злоупотребление доверием? Отсутствие такта? Оглянитесь вокруг! Мы все безумцы.
Исабель прыснула. Дверь лифта открылась, и они попали в салон, где пассажиры, распаленные духом соперничества играли в вопросы и ответы. Распорядитель выкрикивал в микрофон вопросы, а обе команды — они заняли столиков двадцать — писали ответы. Как только у кого-нибудь из участников игры ответ был готов, он вскакивал со стула и бежал к столику жюри. Чарли и Томми, уверенно поддерживая мисс Дженкинс, прошествовали мимо моряка в широких брюках, который записывал на черной доске очки, набранные обеими командами. Исабель, прикрывая сумочкой лицо, шла позади Джека.
— Кто изобрел психоанализ? — раздался вопрос распорядителя.
— Монтгомери Клифт![56] — выпалил Чарли.
— Неправильно! Неправильно! — заверещал Томми. — Это был владелец фабрики, где изготовлялась спальная мебель. Большой ловкач!
— Что было сначала? Кровать или психоанализ? — перебил его Чарли.
Словно сговорившись, они опустили на пол свою даму, опустили так, точно это был мешок с мукой, и, взяв друг друга за талию, подпрыгнули, дрыгая ногами, и завыли:
Эдип, Эдип — он был бесстыжий тип!
И со своею мамой…
Органист тотчас заиграл мелодию из оперетты Оффенбаха, стараясь попасть в такт их песенке.
Когда Чарли и Томми, подобравшие с полу бесчувственную мисс Дженкинс, покидали ярко освещенный салон, их провожали смех и шумные аплодисменты. Войдя в бар, окутанный полумраком, они водрузили мисс Дженкинс на высокий табурет у стойки возле бармена-Ланселота, чтобы тот в случае чего не дал ей свалиться на пол. Томми сразу же завладел роялем, и клавиши зазвенели а-ля Дебюсси. А Чарли, опершись локтями о стойку, раздельно сказал:
— Ты для меня загадка, Ланселот! Коктейль «Бархат полуночи»!
Бармен с морковно-рыжим ворсом на голове обнажил в улыбке черные щербатые зубы.
— Шампанское и портер, милорд?
Показав свои гнилушки, Ланселот мгновенно спрятался под стойкой и тут же вынырнул в золоченом пенсне на цепочке.
— К черту! — Чарли стукнул кулаком о стойку. — «Скарлетт О'Хара».
С непостижимой быстротой бармен смешал в шейкере, наполненном ледяной пудрой, виски, лимонный сок и полбанки протертой малины. Потом несколько раз встряхнул эту смесь перед яростным и налившимся кровью лицом Чарли.
— За борт! За борт Ланселота! У меня иссякло терпение! Какого черта ты торчишь здесь, на этом корыте украинских эмигрантов, когда Марли, Фонтенбло, Виндзор, Петергоф, Сан — Суси, Шенбрун, все дворцы, построенные Сарди, ждут тебя! Любой королевский дворец, любое королевское небо жаждут насладиться твоим искусством! Кузнечик! Grasshopper![57]
Ланселот снова исчез под стойкой и снова появился. Теперь он вставил в глаз монокль на шелковом черном шнуре и надел высокий котелок. Потом добавил к коктейлю ложку сливочного крема, ложку шоколадного и ложку мятного и придвинул запотевший холодный бокал к разгоряченному лицу Чарли.
При виде трех смесей — коричневой, красной и зеленоватой — англичанин из Глоустера притих. Осторожно — по глотку — он отпил из каждого бокала, и его усы окрасились в цвета национального флага какой-то страны, которая еще не провозгласила независимости.
— Один «Аламо»! — успел выдохнуть Чарли, прежде чем свалился без чувств.
Исабель, сидящая возле Джека, приняла из рук Ланселота высокий бокал с грейпфрутовым соком, разбавленным виски.
— Remember the Alamo?[58] — спросил, подмигнув безбровыми глазами, бармен, на голове у которого уже торчал фригийский колпак.
— Грейпфрутовый сок! — сказал Джек.
Исабель сделала первый глоток и скривилась.
— Но ведь я вообще не пью…
— Значит, ты отвергла мое шампанское?
— Нет, нет! Я пила. Но ведь от шампанского не пьянеют.
— Мне вспоминаются мои годы в Калифорнии, — с негой в голосе сказал Томми, перебирая клавиши рояля. В его глазах появилось мечтательное выражение. — Бар в Окленде во времена великого запрета. Мы были такими молодыми, легкомысленными! Наши плечи еще не знали груза забот, который тяжелеет с годами. Я был молодым только один раз в жизни, сеньора, — Томми подмигнул Исабели, — и любил обыкновенную статистку, которую, если ей верить, звали Лэйверн О'Молли. В одном из фильмов она подавала веревку Дугласу Фэрбенксу, который пробирался в замок. Мы были тогда молодыми, романтичными и очень любили петь.
Томми с силой ударил по клавишам и извлек из своей диафрагмы глухое ворчанье. Его влажные глаза внимательно взглянули на Исабель и Джека.
— Не теряйте времени даром, медвежата-коала! Постель — это единственное место для дружбы и любви, познания и жестокости, разочарования и эмоций. Ол Джонсон покончил с Лэйверн, потому что у Лэйверн был голос, способный перехватить межконтинентальную ракету. Потом при Джоне Жильбере и Рамоне Новарро[59] она совсем исчезла с горизонта. Теперь Лэйверн О'Молли содержит пансионат для ветеранов сцены в одном из переулков, вернее, тупиков на бульваре Уилшайр…
Голос Томми сломался, и его плачущее лицо упало на клавиши рояля. Когда Джек сжал руку сеньоры Битл, она не пыталась высвободить ее из твердых пальцев молодого человека и лишь обвела туманным захмелевшим взглядом три неподвижных тела… Мисс Дженкинс, сидя на табурете, крепко спала, навалившись на стойку бара, Чарли свернулся калачиком прямо на полу, положив голову на медную плевательницу, Томми тихо всхлипывал, уткнувшись в безмолвные белые клавиши. А Джек, не сводя пристального взгляда с Исабели, держа ее влажную ладонь в своих пальцах, стал насвистывать первый куплет английского гимна: «Боже, храни королеву!..»
Ланселот подошел на цыпочках к проигрывателю и выпустил на волю голос Сары Воон. И тогда Джек поднял сеньору Битл со стула, притянул к себе, положил руки ей на талию и нашел тот совсем медленный, почти неощутимый ритм танца, который начал убаюкивать ее, погружать в какое-то неведомое оцепенение. Словно в полусне, Исабель увидела обрывки детских игр, обнаженную грудь Гарри, волны, прорезанные острым носом «Родезии», почувствовала запахи английских дезинфицирующих средств и пролитых коктейлей.
Этот второй мужчина не был дерзким, не прижимал ее к себе. Чуть отстранившись, он смотрел ей в глаза и почти не двигался, как того и требовала замедленная мелодия песенки «Му little girl».[60] Сейчас Исабель была совсем другой, новой, как совсем другой была та женщина, что осталась там, на молу Акапулько, далеком и почти нереальном. Рушился свод привычных правил, и она уже не знала, что ей говорить и как вести себя в этой странной компании: Чарли, Томми, мисс Дженкинс и Джек. Джек, который не отрывал от нее пристального взгляда…
— Я смотрю на тебя с того дня, как ты появилась на борту «Родезии», Изабелла!
«Под столбом золотым, под серебряным донья Бланка стоит…»
— Тебе хорошо?
«А мы столб разобьем…»
— И хоть бы раз ты взглянула на меня…
— Хоть бы раз я взглянула на тебя…
По ее телу снизу вверх прокатилась горячая волна.
Исабель припала к Джеку и поцеловала его в самые губы. Но тут же в ужасе отшатнулась назад, потом, сузив глаза, посмотрела на Джека, теперь улыбавшегося, так же пристально, как только что он сам на нее смотрел, и, закрыв лицо обеими руками, вдруг согнулась, точно надломилась от острого чувства стыда, который сразу охладил ее пылающие виски, но так и не смог сладить с разлитым в животе слабым теплом. И она упала на колени перед неподвижным Джеком, уверенно стоявшим на ногах, вросших в пол, словно два стройных дерева.
— О Джек! Джек! Джек!
— Ну встань! Дай мне руку. Давай выйдем на воздух!
— Прости! Я, наверно, опьянела. Ведь я никогда не пила… Никогда… Никогда!
И снова на ее щеки ледяным крошевом, соскобленным с замерзшего озера, упали соленые брызги океана. Но они не принесли, как в ту первую ночь на пароходе, ощущения бодрящей свежести, а лишь усилили тошноту.
— Джек, умоляю, проводите меня в мою каюту. Мне плохо!
— Ты хочешь вернуться к мужу в таком состоянии?
— Нет! Нет! Что же мне делать?
— На воздухе ты придешь в себя. Держись за мое плечо!
— Что ты подумаешь обо мне?
— То, что и раньше. Ты самая прелестная девушка на борту «Родезии».
— Неправда! Не смейся надо мной!
Она вдруг поняла, что зря старается перекричать ветер, который отнимал силу у ее голоса, ее слов, и что кричать здесь, на этом ветру, — все равно что быть немой. Беззвучные молнии, тоже немые, освещали кайму горизонта. Джек шевелил губами, но она ничего не слышала. Ветер трепал их волосы: золотистые кудри Джека и темные пряди Исабели, которые лезли ей на глаза. Джек снял с ее лица очки и швырнул их в море. Исабель протянула вперед руку и встретилась с черной пустотой океана, заполненной неистовым грохотом. Джек с улыбкой выхватил сумочку Исабели, вынул оттуда карандаш для бровей и губную помаду и стремительно, но в то же время сосредоточенно начал рисовать ее новое лицо: выгнул дугой брови, сделал сочными губы, взбил руками темные волосы. Исабель чувствовала ласковое прикосновение его пальцев то на висках, то на лице, то на губах, и наконец, когда Джек протянул ей маленькое зеркальце, она увидела, что эти едва уловимые изменения сделали ее совершенно иной: линия бровей стала выразительной, полные губы придали лицу новую симметрию, а милый беспорядок ее прически делал небрежно легким и раскованным весь ее облик. Ветер незаметно улегся, стих, и голоса опять обрели свою силу.