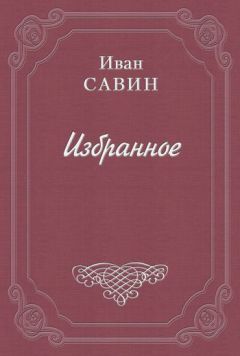Иван Савин - Стихотворения. Избранная проза
Молодость
Упасть на копья дней и стыть.
Глотать крови замёрзшей хлопья.
Не плакать, нет! — Тихонько выть,
Скребя душой плиту надгробья.
Лет изнасилованных муть
Выплёвывать на грудь гнилую…
О, будь ты проклят, страшный путь,
Приведший в молодость такую!
«Двадцать три я года прожил…»
Двадцать три я года прожил,
Двадцать три…
С каждым днём Ты горе множил.
С каждым днём…
Без зари сменялись ночи,
Без зари,
Чёрным злом обуглив очи,
Чёрным злом…
Тяжко бьёт Твой, Боже, молот!
Тяжко бьёт…
Отвори хоть нам, кто молод,
Отвори
Белый вход родного края,
Белый вход…
Посмотри — душа седая
В двадцать три…
ПЕТРУ
Быть может, и не надо было
Годов неистовых твоих…
Судьба навеки опустила б
Мой край в восточные струи.
А ты пришел, большой и чуждый,
Ты ветром Запада плеснул
В родные терема и души.
И, путь свой пеной захлестнув,
Твоя тишайшая держава
Рванулась вдруг и понесла…
Куда: к величью, к вечным славам?
К проклятьям вечным и хулам?
Как знать: то зло, что темным хмелем
По краю ныне разрослось,
Не ты ли с верфи корабельной
На топоре своем принес?
И не в свое ль окно сквозь гиблый,
Сквозь обреченный Петербург
Вогнал ты золотом и дыбой
Всю эту темную судьбу?..
Но средь безумных чад Петровых,
Кто помнит и кого страшит,
……………………………………….
Что там, на черной глыбе, руку
Все выше поднимает Петр,
Что полон кровию и мукой,
Сведенный судорогами рот…
«И за что я люблю так — не знаю…»
И за что я люблю так — не знаю.
Ты простой придорожный цветок.
И душа у тебя не такая,
Чтоб её не коснулся упрек.
Было много предшественниц лучших,
Было много святых. Почему
Грешных глаз твоих тоненький лучик.
Бросив всё, уношу я во тьму?
Или тёмный мой путь заворожен,
Или надо гореть до конца,
Догореть над кощунственным ложем,
На пороге родного крыльца?
У мелькающих девушек, женщин
Ни заклятий, ни лучиков нет.
Я с тобою навеки обвенчан
На лугу, где ромашковый цвет.
«Есть в любви золотые мгновенья…»
Есть в любви золотые мгновенья
Утомлённо-немой тишины:
Будто ходят по мрамору сны,
Рассыпая хрустальные звенья.
Загорается нежность светло
В каждой мысли случайной и зыбкой,
И над каждой бессвязной улыбкой
Голубое трепещет крыло.
Бездомье
(Неоконченное)
Не больно ли. Не странно ли —
У нас России нет!..
Мы все в бездомье канули,
Где жизнь — как мутный бред,
Где — брызги дней отравленных,
Где — неумолчный стон
Нежданных, окровавленных,
Бессчётных похорон…
Упавшие стремительно
В снега чужих земель,
Мы видим, как мучительно
Заносит нас метель…
РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ
ПЛЕН
(КРЫМ, 1920)
Эту книгу посвящаю немцу-колонисту с длинными, рыжими усами, доктору, курившему только махорку, семье, еде была девочка; влюбленная в Чарскую, красному машинисту с белым сердцем. Тем, чьих имен я не могу назвать, чьи имена я свято берегу в своей памяти, — я посвящаю эту книгу.
ПРЕДИСЛОВИЕ
После отхода Русской Армии из северной Таврии, 3-й сводный кавалерийский полк, куда входили, в виде отдельных эскадронов, белгородские уланы, ахтырские уланы и стародубские драгуны, был назначен в резерв. По дороге в тыл, несколько человек солдат 3-го полка, в том числе и я – от уланского эскадрона – были посланы за фуражом на станцию Таганаш.
Когда отряд, под начальством и с людьми ротмистра Прежславского, возвращался к месту стоянки полка, я почувствовал себя настолько плохо, что вынужден был, с разрешения г. ротмистра, остаться по дороге в одной из немецких колоний, название которой уже улетучилось из моей памяти. Предполагаемая простуда оказалась возвратным тифом. Я попал в джанкойский железнодорожный (2-ой) лазарет.
После одного из приступов я узнал от санитара, что Перекоп взят красными. Надеяться на пощаду со стороны советской власти я ни в какой степени не мог: кроме меня, в белой Армии служило еще четыре моих брата – младший из них, как оказалось впоследствии был убит в бою с красными под Ореховом, в июле 1920 г., второй пал в бою под ст. Ягорлыцкой, в феврале 1920 г., двое старших были расстреляны в Симферополе, в ноябре 1920 г. Идти пешком к югу, совершенно больной, я не мог: лазарет в целом, почему-то эвакуирован не был.
Ожидалась отправка последнего поезда на Симферополь. С помощью санитаров я и мой сосед по палате сели в товарный вагон. Через два часа все станции к югу от Джанкоя были заняты советскими войсками. Поезд никуда не ушел. Нам посоветовали возможно скорее возвратиться в лазарет, где встреча с красными была бы все же безопаснее, чем в вагоне. Сосед идти без посторонней помощи не мог (раздробление кости в ноге), я буквально дополз с вокзала к лазарету – шагов четыреста всего. Посланные санитары в вагоне соседа моего не нашли. На следующее утро красные заняли Джанкой и разбили ему голову прикладом, предварительно раздев.
Первыми ворвались в Крым махновцы и буденовцы. Их отношение к пленным можно было назвать даже в некоторой степени гуманным. Больных и раненых они вовсе не трогали, английским обмундированием брезгали, достаточно получив его в результате раздевания пленных на самом фронте. Интересовались они только штатским платьем, деньгами, ценностями. Ворвавшаяся за ними красная пехота – босой, грязный сброд – оставляла пленным только нижнее белье, да и то не всегда. Хлынувший за большевистской пехотой большевистский тыл раздевал уже догола, не брезгая даже вшивой красноармейской гимнастеркой, только что милостиво брошенной нам сердобольным махновцем.
Приблизительно через неделю меня, вместе с другими еле державшимися на ногах людьми, отправили в комендатуру «на регистрацию». В комендантском дворе собралось несколько тысяч пленных в такой пропорции: четыре пятых служивших когда-нибудь в красных рядах, одна пятая – чисто-белых. Я принадлежал к последней категории, почему и был избит до крови каким-то матросом в николаевской шинели. Сперва нас думали опрашивать, но это затянулось бы на месяцы (тысячи пленных все прибывали с юга). В конце концов, составив сотни, нас погнали на север.
I. ДЖАНКОЙ
По серому больничному одеялу шагал крошечный Наполеон. Помню хорошо, вместо глаз у него были две желтые пуговицы, на треугольной шляпе красноармейская звезда, а в левой, крепко сжатой в кулак, руке виднелась медная проволока.
Наполеон шагал по одеялу и тянул за собой товарные вагоны – много, тысячи, миллионы буро-красных вагонов. Когда бесчисленные колеса подкатывались к краю кровати и свисали вниз дребезжащей гусеницей, Наполеон наматывал их на шею, как нитку алых бус и кричал, топая ногами в огромных галошах:
– Вы, батенька мой, опупели, вы совсем опупели…
Наполеон шагал по одеялу, звенел шпорами из папиросной бумаги, просачивался сквозь серую шерсть, таял, и из пыльной груды вагонов выползала Веста – охотничья собака старшего брата.
У Весты длинный язык, со скользкими пупырышками, пахнул снегом, водными лилиями и еще чем-то таким, от чего еще бессильнее становились мои руки под одеялом. Собака лизала мне подбородок, губы, нос, волосы, рвала подушку, лаяла…
Потом Веста рассыпалась рыжим дымом, таяла, и у кровати появлялось длинное белое пятно с красным крестом наверху. Пятно наклонялось надо мной, дыша йодом и выцветшими духами, жгло лоб мягкой ладонью, спрашивало:
– У вас большой жар, милый? Да?..
Так шли часы, дни. Может быть, было бы лучше, если бы очередной приступ обрезал их тонким горячим ножом. Не знаю. Может быть!
Когда пугливая неуверенная мысль, впервые после долгого бреда, промыла глаза и осеннее солнце запрыгало по палате, у дверей стоял санитар в черной шинели с коричневым обшлагом на рукаве и говорил дежурной сестре эти невероятно-глупые слова: