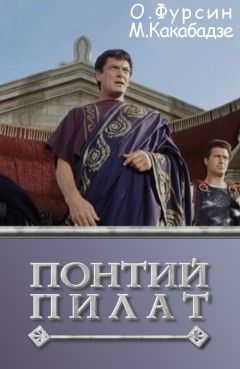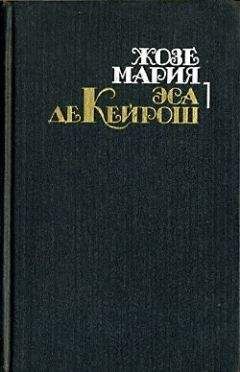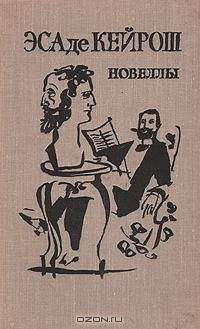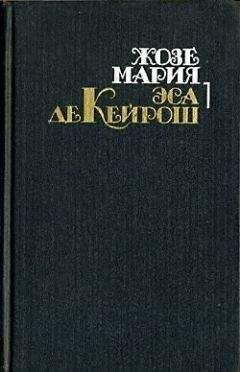Жозе Эса де Кейрош - Реликвия
Да! Я должен слиться с церковью, раствориться в ней без остатка, чтобы тетушка постепенно перестала различать меня в этом заплесневелом нагромождении крестиков, медальонов, молитвенников, риз, витых свечей, епитрахилей, пальмовых ветвей, освященных наплечников, икон и статуй — всего, что составляло для нее религию и бога. Когда в голосе моем ей послышится шелест церковной латыни, когда на моем черном сюртуке ей почудятся звезды, а ткань его станет прозрачной и легкой, подобно райским одеждам ангелов, только тогда она подпишет завещание в мою пользу, убежденная, что отдает свои деньги Христу и нашей матери-церкви!
Я преисполнился решимости не отдавать Иисусу, сыну Марии, круглый капиталец Г. Годиньо. Как бы не так! Неужто богу мало его бесчисленных сокровищ: пышных соборов, которые загромождают и омрачают землю; подписных листов и ценных бумаг, беспрерывно поступающих на его имя от верующего человечества; пригоршней золота, что слагают к его израненным ногам государства; неужели мало ему драгоценной утвари, дароносиц, брильянтовых запонок, вдетых в его одежду в церкви Благодати божией? И вот, имея такие богатства, он, с высоты своего деревянного креста, устремляет жадный взгляд на серебряный чайник и скучные доходные дома в Байше! Ладно же. Мы еще потягаемся за эти преходящие крохи: ты, сын плотника, будешь выставлять перед теткой раны, некогда принятые тобой ради ее спасения в варварском азиатском городе; а я буду поклоняться этим ранам с таким шумным рвением, что она перестанет различать, кто из нас достойней: ты ли, отдавший жизнь из любви к людям, или я, не щадящий сил, чтобы отплатить тебе равной мерой!
Так я рассуждал, шагая по тихой улице Сан-Лазаро и глядя на небо недобрым взглядом.
Когда я пришел домой, тетя была одна в молельне и перебирала четки. Я тихонько прокрался в свою комнату, разулся, снял фрак, растрепал волосы, встал на колени — и пополз по коридору, стеная, причитая, колотя себя в грудь, истошно взывая к господу моему Иисусу…
Услышав в безмолвном доме эти униженные вопли покаяния, тетушка испугалась и вышла в коридор.
— Что это, Теодорико, что с тобой, сынок?
Я зарыдал и повалился ничком на пол, словно обессилев от душевных мук.
— Простите меня, тетечка… Я был в театре с доктором Маргариде, мы вместе пили чай, говорили о вас, тетечка… И вдруг, по дороге домой, на Нова-да-Палма, я подумал, что всем нам придется умирать, и о том, как спасти грешную душу, и о том, сколько господь претерпел ради нашего спасения, и слезы подступили к горлу… Ах, тетечка, сделайте одолжение, оставьте меня на минутку одного… Здесь, в молельне, мне станет легче…
Пораженная, притихшая, она зажгла одну за другой все свечи на алтаре. Выдвинула вперед любезного ее душе святого Иосифа, чтобы он первый принял жаркие мольбы, рвавшиеся из моего переполненного, растревоженного сердца. Затем посторонилась, чтобы я мог проползти в молельню, и исчезла, бережно задернув занавесь. Я уселся на теткиной подушке, потирая колени и шумно отдуваясь, и стал думать о виконтессе де Сото-Сантос (или де Вилар-о-Вельо) и воображать жадные поцелуи, которыми покрыл бы ее пышные плечи, если бы мог хоть на минуту остаться с нею наедине — пусть даже здесь, в молельне, у золотых ног искупителя.
С этого дня я внес поправки в свое богопочитание и довел его до совершенства. Отныне треска не удовлетворяла меня как средство обуздания плоти: по пятницам, на глазах у тетки, я аскетически выпивал стакан воды и закусывал коркой хлеба. Треску с жареным луком я ел по вечерам, у моей Аделии, и получал в придачу парочку кровавых бифштексов. В ту зиму в моем платяном шкафу висело одно лишь старое пальто — так чужд я стал суетным помыслам; очистив свой гардероб от пошлых шевиотов, я с гордостью водворил туда лиловое облачение братства Крестного пути и пепельную мантию терциариев святого Франциска. На комоде, под цветной литографией Пречистой девы до Патросинио, теплилась отныне неугасимая лампада; каждый день я ставил рядом стакан со свежими розами, чтобы воздух всегда благоухал. И когда тетечка приходила рыться в моих пожитках, она восхищенно застывала на месте перед изображением своей покровительницы, не зная уже, мадонне ли или ей, тете Патросинио, посвящаю я вечный огонь и фимиам свежей розы. По стенам я развесил изображения особо почитаемых святых наподобие портретной галереи духовных предков, чтобы у них искать вдохновения на подвиг добродетели; под конец не осталось на небе ни одного самого захудалого угодника, которому я не поднес бы цветущего букета молебствий. Именно через меня тетушка узнала святого Телесфора, святую Секундину, блаженного Антония Эстронкония, святую Реституту, святую Умбелину, родную сестру прославленного святого Бернарда, и нашу возлюбленную землячку, сладостную святую Василису, чей день празднуется в августе одновременно со святым Гипатием, когда паломники на лодках плывут в Аталайю.
Я стал неутомимым богомольцем. Ходил к заутрене, ходил к вечерне. Ни разу не пропустил молебна перед святым сердцем Иисусовым ни в одной церкви или часовне. Где бы ни выносили святые дары, я был тут как тут, коленопреклоненный. Ни один обряд общего покаяния не обходился без меня. Я отслужил столько акафистов, сколько звезд на небе. Страстная седмица стала предметом самых заветных моих помышлений. Выдавались дни, когда я, еле переводя дух, носился по городу, чтобы поспеть к семи часам утра в церковь св. Анны, оттуда к девяти часам к мессе у св. Иосифа, затем к полуденной службе в часовне Оливейриньи; на минутку остановившись передохнуть где-нибудь на углу, с молитвенником под мышкой, я торопливо выкуривал сигарету и летел к выносу святых даров в приходскую церковь св. Иоанны, затем к св. Энграсии, оттуда на освящение четок в монастырь к таинству пресуществления святых даров в часовню Пречистой девы в Пикоас, потом к вечерней службе страстей господних, с музыкой, в церкви Благодати божией; после этого хватал коляску и еще успевал заглянуть ко Всем мученикам, к св. Доминику, в церковь при монастыре Искупления, в церковь Салезианок при монастыре Марии и Елисаветы; в Монсерратскую часовню на Аморейрас, в часовню Благодати на Кардал-да-Граса, к Фламандкам, к Альбертинкам, на Пену, на Рато, в Кафедральный собор!
Вечером я сидел на софе у Аделии такой вялый и выдохшийся, что она стукала меня кулаком в плечо и восклицала:
— Проснись же, тумба!
Скверно! Но вот пришел день, когда Аделия перестала называть меня даже тумбой. Однажды, одурев от служения господу, я никак не мог расстегнуть ей лиф, и с тех пор всякий раз, как мои ненасытные губы тянулись к ее шее, она отмахивалась и называла меня назойливой мухой… Все это происходило накануне веселого дня св. Антония, когда расцветают первые базилики; шел уже пятый месяц моей праведной жизни.
Аделия стала впадать в рассеянность. Когда я о чем-нибудь ей рассказывал, она вдруг таким равнодушным, отсутствующим тоном говорила: «Да?» — что у меня сердце обрывалось. Потом в один прекрасный день она перестала дарить мне самую лучшую и любимую ласку: сладкий поцелуй в ухо.
Правда, она была по-прежнему нежна… По-прежнему с материнской аккуратностью вешала мое пальто; по-прежнему говорила мне «милый»; по-прежнему выходила в одном капоте провожать меня на крыльцо и, размыкая прощальное объятие, испускала глубокий вздох — драгоценное свидетельство любви… Но поцелуев в ухо больше не было!
Даже прибегая к ней позже условленного часа, я заставал ее еще не одетую, не причесанную, вялую, заспанную, с синевой под глазами. Она равнодушно протягивала мне руку, позевывала, лениво бралась за гитару; и, пока я угрюмо сидел в углу, куря сигарету за сигаретой, и ожидал минуты, когда отворится заветная стеклянная дверь спальни, ведущая на небеса, бессердечная Аделия, сбросив с ног туфли и растянувшись на софе, перебирала струны и напевала вполголоса песни, полные тоски о чем-то далеком, перемежая их долгими вздохами…
В порыве любви я вставал на колени у ее изголовья — и слышал жестокие, леденящие душу слова:
— Отвяжись ты, муха!
Она упорно отказывала мне в любви. То говорила: «Не могу, у меня изжога», то: «Уходи, бок болит».
Я поднимался с колен, стряхивал брюки и отправлялся домой — ограбленный и несчастный, оплакивая в душе те блаженные времена, когда она называла меня тумбой.
Однажды в бархатно-черную, звездную июльскую ночь я пришел к ней незадолго до установленного часа. Дверь была открыта. Керосиновая лампа, оставленная на полу, заливала лестницу светом; Аделия, в нижней юбке, стояла на площадке в обществе молодого человека со светлыми усиками, одетого в щегольской испанский плащ. Она изменилась в лице, он съежился, когда я возник из темноты, рослый, чернобородый, с палкой в руке. Затем, без тени смущения, с правдивой и открытой улыбкой, Аделия представила мне «своего племянника Аделино». Это старший брат маленького Теодорикиньо, сын сестрицы Рикардины из Визеу… Я снял шляпу и дружески пожал уклонявшиеся пальцы сеньора Аделино.