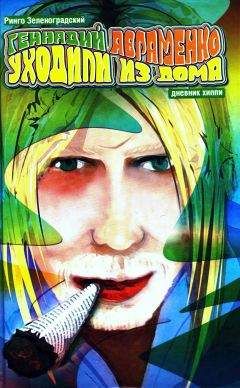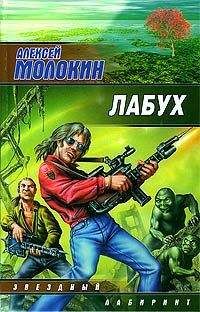Загоскин Николаевич - Русские в начале осьмнадцатого столетия
— А племянницу-то как зовут, не Ольгой ли Дмитриевной?
— Да, Ольгой Дмитриевной.
— Э, так это Запольская. Она так же, как ты, брат, круглая сирота: у нее нет ни отца, ни матери. Мы с ее родным дядею, Максимом Петровичем Прокудиным, старинные приятели.
— Ах, Боже мой!.. Да я у него вчера ночевал, и он еще велел вам кланяться. Да что ж это, дядюшка: коли вы с ними знакомы, так как же я ни разу их у вас не видал?
— Бабьи сплетни, братец! Жена моя стала выговаривать Аграфене Петровне, зачем она ездит в Немецкую слободу; та разгневалась, перестала к нам жаловать, а уж Марфа Саввишна сама ни за что на свете к ней не поедет.
— Ну что, дядюшка, не правда ли, что Ольга Дмитриевна…
— Да! Девица хорошая, умная и, говорят, очень благонравная. Ее осуждают, что она частенько по вечеринкам изволит ездить, и тетушку за это побранивают; а как их послушаешь, так они обе правы. Ольга Дмитриевна ездит з-тем, что это угодно тетушке, а Аграфена Петровна з-тем, чтоб племянницу повеселить^— так и выходит, что они обе ездят поневоле. Да пускай себе и по охоте, — беда небольшая. Пора нам перестать держать взаперти наших жен и дочерей; и добро бы еще это был коренной русский обычай, а то ведь нет: мы переняли его у татар.
— Так вы думаете, дядюшка…
— Да, брат Василий, да: она по всему тебе пара, и достаток есть.
— Так что ж, дядюшка?..
— Да вот изволишь видеть: Максим-то Петрович ей вместо отца родного, а он человек упрямый, держится старины и не очень жалует вашу братию — гвардейских офицеров.
— Помилуйте!.. Да он меня так обласкал, такую атенцию ' во всем показывал…
— Это само по себе. Прокудин вовсе не походит на какого-нибудь Лаврентия Никитича Рокотова: тот не стал бы и говорить с тобою; а Максим Петрович мужик умный, большой хлебосол и всегда рад угостить проезжего человека, кто бы он ни был; но только вряд ли выдаст за тебя племянницу, — не то у него в голове. Он часто мне говаривал: «Коли посватается за Оленьку человек добрый, степенный, хорошего рода, русский по имени, русский по обычаю, — так милости просим; а за какого-нибудь молодчика с бритой бородкою, который на немца смахивает, я ни за что ее не выдам». Да ты как вчера к нему попал?
— Вовсе нечаянно: меня загнала к нему метель.
— Ну что он с тобою поговорил?
— Да все смеялся над Петербургом.
— А ты?
— А я за него горой стоял…
— Ох, худо, брат!
— Потом начал позорить наш мундир, над немцами подшучивать.
— А ты?
— А я за них заступался.
— Ну, худо!.. Вот то-то и есть, — зачем ты с ним спорил?.. Молчал бы, да и только.
— Но разве я мог отгадать…
— Что Ольга Дмитриевна родная племянница Максиму Петровичу?.. Ну конечно, этого ты отгадать не мог. Да Максим-то Петрович тебе в дедушки годится, так пригоже ли тебе с ним заедаться? Я — дело другое: у нас с ним бой равный. А ты что перед ним?.. Молокосос. И что за беда старику уступить? Да пусть он себе говорит что хочет.
— Так поэтому, дядюшка, мне нечего и надеяться?
— Да, племянник, большой надежды нет… Впрочем, почем знать? Попытка не шутка, а спрос не беда. Я съезжу прежде поговорить с теткою, а там, пожалуй, и в деревню- к Максиму Петровичу поеду, и если мы его уломаем, так теперь на слове положим, а там, как вернешься из похода, веселым пирком да за свадебку!.. Сегодня, может статься, ты опять увидишь ее у Гут-феля… Ведь вы, чай, там меж собой разговариваете?
— Как же, дядюшка, и танцуем и разговариваем.
— Так ты, братец, поразговорись с нею хорошенько, рассмотри ее порядком и себя ей покажи. Вот, подумаешь, — продолжал Данила Никифорович, — когда государь Петр Алексеевич изволил учредить эти ассамблеи и указал на них бывать и женам и дочерям боярским, так мало ли крику-то было: «Последние, дескать, времена наступили, антихрист воцарился! Уж коли православный государь заводит такие богопротивные сходбища, так чего ждать путного?» А прежние-то пирушки лучше, что ли, были? Съедутся на вечеринку, начнется попойка; барынь и барышень нет, так стыдиться некого, — пей себе в мертвую чашу! А как нарезкутся, так пойдут всякие непригожие речи, срамные холопские пляски, непотребные песни. То ли дело на этих ассамблеях. Как ты станешь бесчинствовать? Коли не постыдишься своей жены, так перед чужой будет совестно. Иной бы, пожалуй, хватил темную да вприсядку пошел, а тут нельзя! Выпьет стаканчик, другой — да и к сторонке. А это также разве безделица? Теперь ты приедешь на ассамблею, увидишь девицу, она тебе приглянется; ты с нею поговоришь, познакомишься и если задумаешь на ней жениться, так знаешь, на ком женишься; не то что прежде: бывало, ты свою невесту и в лицо никогда не видывал, а чтоб промолвить с нею словечко — да забудь об этом и думать! Под венцом она стоит в покрывале, кто ее знает, — может быть пригожа, а может статься, и рожа-то на стороне! Меня точно так же венчали… Да я-то еще слава Богу: моя Марфа Саввишна была красавица. Когда в опочивальне она встретила меня без покрывала да поклонилась в пояс, так у меня сердце запрыгало от радости! С другими не то бывало: иному сваха наговорит и Бог весть что: грудь лебединая, и брови собольи, и с поволокою глаза… а уж разумница-то какая! что слово скажет, то рублем подарит!.. А там, посмотришь, приедет от венца, заговоришь с нею — дура набитая, взглянешь на нее — батюшки, пугало огородное: рябая, кривая, носатая!.. Вот тебе и с поволокою глаза!.. Ну, пожалуй, после залучи к себе сваху, потешься, отломай ей бока, а что прибыли: жена не башмак, с ноги не сбросишь!..
— Так, дядюшка, так!.. Ассамблеи, а также и австерии поистине наиполезнейшие и зело премудрые учреждения. Ну, рассудите сами: какой я могу ожидать сатисфакции1 от супружества с девицею, которую не только не знаю персонально, но и в глаза-то никогда не видывал? Ведь жена, как вы сами изволите говорить, не башмак, вы его не станете носить, коли он натирает вам мозоль, а с женою-то что будешь делать?..
— Да, любезный, какова попадется, а уж не прогневайся, — развенчивать не станут. Ну-ка, брат Василий, — продолжал Данила Никифорович, вставая, — пособи мне халат надеть, чай, пора обедать… Да вот, кажется, за нами пришли… Что ты, Фаддей, кушанье готово?
— Готово, батюшка, — сказал слуга с низким поклоном, — Марфа Саввишна изволит вас дожидаться.
— Пойдем, племянник, покушай на здоровье, а там приляг да сосни хорошенько. Ты с дороги-то ни на что не походишь; а ведь тебе, любезный, — промолвил Данила Никифорович, выходя вместе с Симским из комнаты, — следует явиться к Адаму Фомичу молодцом. Смотри, брат, чтоб все немки, глядя на тебя, разахались; только сам-то не больно за ними ухаживай, — помни, брат, охотничью пословицу: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь».
Симский отправился в шестом часу после обеда к Адаму Фомичу Гутфелю. Иноземный гость, амстердамский уроженец, Адам Фомич Гутфель жил на Кукуе, то есть в Немецкой слободе, против самой кирки, в собственном доме. Хотя этот длинный деревянный дом очень походил на обширные хоромы русского боярина, однако ж во многом напоминал родину своего хозяина. Особенно отличался он от других домов своими широкими равносторонними окнами, черепичной кровлею, подъездом с улицы и резными дубовыми дверьми с двумя огромными медными скобами, из которых одна, повешенная на петлях, заменяла колокольчик, то есть возвещала о приходе гостя, который мог постучать ею как молотком в приделанную к дверям медную бляху. Какой-то путешественник, говоря о голландцах, сказал, что они любят жить очень чисто и для того беспрестанно моют все на свете, исключая своих собственных рук. Не знаю, до какой степени справедливо это замечание, но во всяком случае Адам Фомич вполне оправдывал его собою. У него во всем доме не было ни пылищи: столы, стулья, поставцы — словом, вся домашняя утварь лоснилась и блестела, как будто бы ее сейчас привезли из лавки. Но зато он сам почти всегда ходил неряхою и его толстые красные руки вовсе не могли назваться опрятными даже и тогда, когда у него была ассамблея и он принимал гостей; но на этот раз Адам Фомич, видно, об-этом позаботился. Его борода была выбрита гладко, уки не запачканы, манжеты накрахмалены, и коричневый суконный кафтан с огромными пуговицами был почти так же чист, как цветной ковер, постланный в сенях и по всем ступенькам лестницы. Говоря о кафтане Адама Фомича, я упомянул только мимоходом о его огромных пуговицах, а они заслуживают особенного описания. Собственно сказать, это были не пуговицы, а весьма хитрой работы круглые медальоны с выпуклыми стеклами, под которыми очень искусно уложены были пестрые бабочки, красивые козявки, зеленые жучки и разные другие диковинные букашки: одним словом, это бортище пуговиц или, лучше сказать, этот голландский кунстштык мог служить вывескою для знаменитой петербургской кунсткамеры. Отчего же Адам Фомич принарядился таким необычайным образом? Зачем стоял он в сенях у самого крыльца, несмотря на то, что на дворе было довольно холодно? Ради чего дородная его супругу в пышном фуро из шелковой японской материи, вышла в переднюю комнату и держала в руках китайский лакированный поднос, на котором лежал хлеб, голландский сыр и стояла серебряная чарка с анисовой водкой?.. Читатель, может быть, позадумается, желая решить этот вопрос, но Симский, войдя в дом, сейчас догадался, что Адам Фомич ожидает к себе на ассамблею государя Петра Алексеевича. Вслед за Симским подъехал, в простых лубочных санях, царский комнатный писец Иван Антонович Черкасов2. Он вошел в сени и, обращаясь к хозяину дома, сказал: