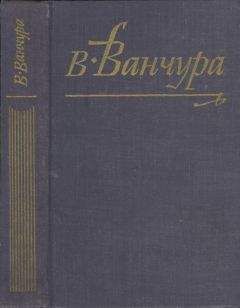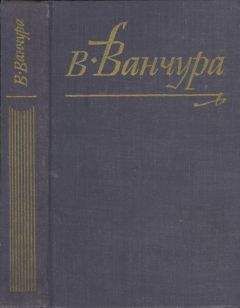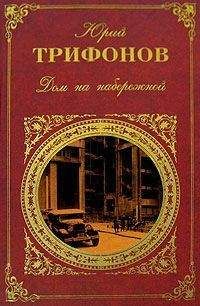Владислав Ванчура - Конец старых времен
— Послушай, Бернард, старый пройдоха, где же мы с тобой встречались? Не служил ли ты секретарем у господина де Монфри?
Ей-богу, я дивился всему этому, как младенец. Только что я готов был поклясться, что впервые вижу этого краснобая — и вот уже уверен, что знаю его многие годы. Или этот человек умел гадать лучше цыганки, или кто-то шепнул ему про меня. Как бы то ни было, пришлось мне признать, что он почти во всем прав — за исключением почек, и это я ему тотчас поставил на вид.
Ваша милость, — сказал я, — что касается моих внутренних органов, то я, кажется, ни на что не могу пожаловаться.
Э! — высокомерно отмахнулся он. — Увидим, когда начнешь пить.
И он приказал налить мне сразу два бокала.
Тут мы взялись пить. Полковник хлопал себя по ляжкам, болтая то по-чешски, то на прекрасном французском языке — однако ругался он по-русски, утверждая, что знает лишь один язык, не уступающий в этой области русскому.
— Нет ничего легче угадать, — вставил я. — Это, конечно, турецкий.
На том мы и согласились.
Мы хохотали. Я уже принял свою норму, разошелся к его светлость. Под веселую болтовню и звон бокалов у меня минутами всплывала мысль, что полковник все-таки личность сомнительная — но я тут же об этом забывал. В конце концов я решил так: если он будет меня расспрашивать — значит, он просто бродяга; если же нет — то какие у меня основания считать его мошенником? Мошенник бы наверняка постарался все выведать — что за человек мой хозяин, или как здоровье госпожи, — тут-то он и попался бы, ибо пан Стокласа давно овдовел.
Итак, мы продолжали пировать. Но поглядывал ли я на полковника искоса или беспечно предавался веселью — мой собутыльник держался все так же дружески, все так же буйно, и смеялся все так же. Он ни о чем не спрашивал и явно был доволен вином.
Между тем наш Марцел познакомился в кухне со слугою полковника. Они вдвоем разбирали мешок его светлости, и Ваня показывал мальчику то великолепный пояс, то коврик, то старинный пистолет, приговаривая:
— Это вот с Кавказа, а то — из Сибири.
На всех этих предметах лежала печать странствий и ветхости. Я не дал бы и гроша за подобный хлам, но, хранимый в старом потрепанном мешке, он казался сокровищем. То были предметы с разных концов земного шара. Один отражал свет маленькой лампы, ибо эти старые сифилитики (я говорю о лесниках) не дали сюда приличных светильников, а уже смеркалось; на другом сохранились следы боев, третий мог увлечь юное воображение видом старины. Маленький Марцел просто не дышал.
Твой господин, — сказал он, — безусловно, замечательный человек и много путешествовал.
Еще бы! — ответил Ваня. — Замечательный, добрый, храбрый, только — порох. Из-за одного словечка в ссору лезет, и сразу — стреляться…
Марцел стоял на коленях, Ваня высился над ним с револьвером в руке, щелкая курком, державшимся на честном слове.
— Кабы занимался он своим делом, да не путался с бабами, да кабы не был он такой бешеный, — мы бы Киев взяли! Мой полковник стоял на Днепре, а по всем деревням шел большой колокольный звон, ровно на пасху. Все ждали — вот царь вернется…
Тут Ваня замолчал и перекрестился православным крестом, а маленький Марцел повторил это движение.
Однако время подробнее рассказать об этом цыпленке. Где мальчик получил свое имя? В церкви, под колокольный звон, в воскресенье, шестнадцать лет тому назад. Во время обряда герцог сам держал его на руках. Наш добрый священник, которого впоследствии выжили из прихода, окропил обоих, и тогда, рассказывают, герцог с улыбкой заметил, что сподобился святого крещения во второй раз. И по сей день Марцелу напоминают в людской:
— Не забывай, лопоухий, что герцог сказал именно так, а не иначе.
Вот, в основном, и все. С тех пор и рос наш озорник на герцогском дворе и, сделавшись юношей, сохранил образ мыслей простодушный и чистый. Отца его давно нет в живых. Мать умерла много лет назад. Родные хранят молчание.
Марцел так же, как и я, и как все прочие достойные люди в замке Отрада, ел хлеб из рук герцога, а позднее из рук Стокласы. Видит бог, это далеко не мед. Мальчик чистит серебро, ухаживает за пчелами, в пору созревания фруктов сторожит сад, бегает за почтой — но в общем живется ему неплохо. Я не уделял ему большого внимания, хотя время от времени устраивал проверки — как у него дела с правописанием и с таблицей умножения. Мальчик всякий раз с честью испытания выдерживал, и я его за это хвалю.
Так вот милый наш Марцел, разглядывая осколки полковничьей славы, был совершенно покорен этой фигурой. Я видел, как он заглядывает в зал, где мы сидели, как слушает, широко раскрыв глаза. Я сделал ему знак приблизиться. Он повиновался с великой охотой. Полковник назвал его «казачком» и дал ему хлебнуть вина.
Написанное мной здесь, конечно, может быть прочитано просто так, как если бы я сказал, что на улице идет снег. Но слышали бы вы, как это вымолвил полковник! Как взял он Марцела за подбородок, каким движением провел по усам, рассматривая мальчика! А у того блестели глаза, и он не отрывал взгляда от своего полковника, и видно было, что малыш на вершине счастья. Я и сам улыбался — так ему было к лицу это восхищение. Полковник отстранил Марцела на длину вытянутой руки и обошел вокруг него, бренча шпорами.
Как — неужели у этого гистриона были шпоры?! Совсем недавно я смотрел на его обувь и видел сплошные заплаты и дыры, но никак не шпоры! У меня, кажется, глаза на лоб полезли. Теперь я стал склоняться к мысли, что это аферист.
ОБЩЕСТВО В ОХОТНИЧЬЕМ ДОМИКЕ
Но прежде, чем я успел что-либо сказать, дверь отворилась и вошел лесничий. Он выбрал более короткий путь, чтобы посмотреть, все ли готово. Увидев князя за полупустыми бутылками, старый Рихтера было заколебался, но ничего не поделаешь — барин всегда барин, а слуга всегда лишь слуга. И наш лесничий, не решаясь поднять голос, смирно стоял в уголке, ожидая, когда полковник позовет его.
Пока они разговаривали, в прихожей послышались шаги, и вскоре зал заполнили наши охотники. Стокласа вошел одним из последних. Обычно когда попадаешь в комнату с улицы, сначала ничего толком не разглядишь. Так было и с нашими гостями — одни протирали глаза, другие снимали верхнюю одежду, нимало не заботясь о том, кто сидит у стола. Впрочем, полковник встал, и я собирался последовать его примеру, желая приветствовать Якуба Льготу, но этот славный господин уже сам шел мне навстречу и, заметив моего приятеля полковника, подал ему руку. Теперь все пошло как по маслу. Князь пожелал обществу доброго вечера и поклонился Михаэле.
Несмотря на суету в зале, полковник привлек к себе внимание. Я слышал, как гости перешептываются:
Не кёпеницкий ли это ротмистр?[5]
Или д'Эмперней?
Может быть, граф Кода?..
— А не Аулеыбург ли это, хранитель гроба господня и командор бордоского ордена Святого креста?
Все это забавляло барышню Михаэлу, но сам Стокласа, в отличие от дочери, был несколько встревожен. Заметив, однако, что гость выказывает безупречные манеры и учтивость, он вскоре успокоился.
Мой новый знакомец держал себя изысканно, говорил мало, охотно слушал и смеялся шуткам, раздававшимся то там, то тут. Смех у него был весьма приятный. Прочие все каркали как вороны, зато у полковника голос был редкой красоты. Состязаться с ним мог только смех барышни Михаэлы, все остальные тушевались перед ним.
Постепенно вино бросилось мне в голову. Я сделался чуть ли не дерзок и во что бы то ни стало желал высказать правду. Мне хотелось объяснить, кто из присутствующих чего-нибудь стоит, а кто не стоит ничего. Вдруг я получил изрядный пинок и увидел, что полковник дает мне знак умолкнуть. Однако жест полковника был слишком заметен, и мой новый приятель неудержимо расхохотался. Этот смех примирил меня с ним. Вскоре к смеющемуся присоединилась Михаэла, а вслед за тем я различил еще один голос, звучавший столь же чудесно.
Я обернулся на этот третий голос — и знаете, чьим он оказался? Кто смеялся, как горлипка? Марцел!
А общество, казалось, и не замечало моего восхищения. Господа беседовали о гнусных торговых сделках, о сельскохозяйственных вредителях, о государственном бюджете… о чем только не говорили!
Время бежало, пустыми бутылками наполнилась целая корзина. Мое опьянение становилось все менее заметным на фоне побагровевших лиц. Обводя взглядом гостей, я видел, что у одного пылают уши, у другого поднимается пар от лысины, у третьего встопорщились усы, у четвертого вздулись вены на висках. И так подряд, пока я не перевел глаза на дам. Дамы же сидели, чинно выпрямившись, то поднимая руки к голове, чтобы поправить прическу, то держа их на поясе, — дам ведь всегда одолевают разнообразные хлопоты с лямками и юбками, которые вечно то длиннее, то короче, чем сейчас носят. Их щебетание было мне приятно, ибо замечания их были довольно метки. Среди дам попадались пригожие личики: одна русоволосая по имени Элеонора — о ней я уже упоминал, — одна мавританского типа и еще одна, особливо прелестная, с прической Анны Болейн[6].