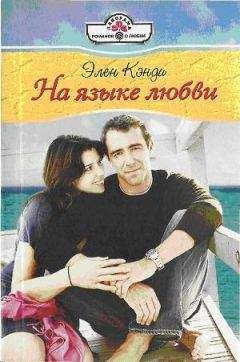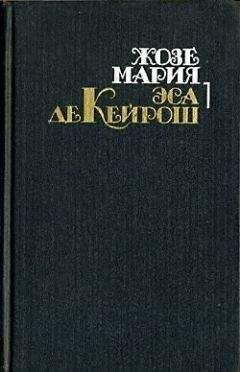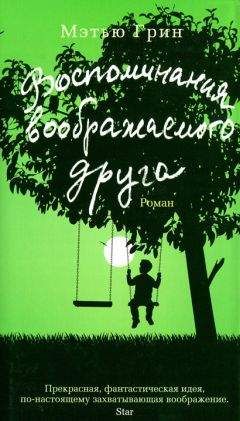Жозе Эса де Кейрош - Мандарин
Субъект согнулся в таком подобострастном поклоне, какой, должно быть, делают придворные короля Бобеша в его присутствии. Тот, кто стоял передо мной, был низенького роста и достаточно грузен, его седые бакенбарды касались отворотов люстринового пиджака, на носу поблескивали массивные золотые очки — он был воплощением порядка и дрожал с головы (сияющей лысины) до пят — ног, обутых в сапожки из телячьей кожи. Откашлявшись, он начал слегка заикаясь:
— У меня есть известия для вашей милости! Известия важные! Меня зовут Силвестре… «Силвестре Жулиано и Компания». Я к вашим услугам, ваше превосходительство. Эти важные известия прибыли с пароходом из Саутгемптона. Мы сотрудничаем с фирмой «Брито, Алвес и Компания» в Макао… Сотрудничаем с фирмой «Крэг энд Компани» в Гонконге… Аккредитивы прибыли из Гонконга…
Субъект задыхался от желания сказать все сразу, я его пухлая рука размахивала толстым конвертом с черной сургучной печатью.
— Естественно, — продолжал он, — ваше превосходительство осведомлены… Не осведомлены были мы… И замешательство наше вполне понятно… Но мы смеем надеяться, что ваше превосходительство не лишит нас своего расположения… Мы всегда вас глубоко чтили… ваше превосходительство — цвет добродетели, зерцало чести! Вот здесь аккредитивы на компанию «Беринг и братья» в Лондоне. Аккредитивы сроком на месяц на банк Ротшильда…
При этом звучном, как само золото, имени я, алчущий богатства, спрыгнул с кровати.
— Что это значит, сеньор? — закричал я.
А он, встав на цыпочки, продолжал размахивать конвертом и кричать еще громче:
— Здесь сто шесть тысяч конто, сеньор! Сто шесть тысяч конто, которые переведены на ваше имя, сеньор, в банки Лондона, Парижа, Гамбурга и Амстердама. Они к вашим услугам. Переведены из Гонконга, Шанхая, Кантона. Это — наследство мандарина Ти Шинфу!
Мне показалось, что земля задрожала под моими ногами, и на какой-то миг я закрыл глаза. Но тут же в озарении понял, что с этой самой минуты я вроде бы в какой-то мере воплощение сверхъестественного начала, что я заимствую от него силу и наследую его всемогущество. Нет, теперь я не мог себя вести как простой смертный и испытывать человеческие чувства и, убоявшись изменить предначертанное мне свыше, не пошел рыдать от радости на пышной груди мадам Маркес.
С той самой минуты я стал холодным и бесстрастным, как и подобает быть богу или дьяволу, и тут же, непринужденно подтянув штаны, сказал «Силвестре Жулиано и Компания» следующие слова:
— Прекрасно! Мандарин… этот мандарин, о котором вы сказали, поступил по-рыцарски. Мне известны побудившие его к тому причины — это дело семейное. Оставьте бумаги… Всего доброго.
«Силвестре Жулиано и Компания» удалился, все так же не разгибая спины, пятясь задом и глядя в пол.
Тут я распахнул окно настежь и, откинув назад голову, стал вдыхать, точно загнанная косуля, жаркий воздух…
Потом посмотрел вниз, на улицу, где между двумя рядами стоявших экипажей проходили только что вышедшие из церкви горожане. Мой взгляд бессознательно остановился вначале на женских прическах, потом на вспыхивающих металлическим блеском драгоценностях. И вдруг я почувствовал всепобеждающую уверенность, что в состоянии нанять все стоящие внизу экипажи как на час, так и на год, уверенность, что ни одна из идущих внизу женщин ни в чем мне не откажет и пойдет за мной по первому моему зову и что все мужчины в праздничных рединготах падут передо мной ниц, как перед Христом, Магометом или Буддой, если я на всех площадях Европы потрясу у них перед носом ста шестью тысячами конто!
Схватившись за подоконник, я зло рассмеялся, глядя на преходящее веселье этого зависимого от звонкого металла человечества, которое считало себя свободным и сильным, тогда как на самом деле в запечатанном черным сургучом конверте, что я держал в руках, была заключена первопричина их слабости и рабства! Вот уж тут мое воображение дало мне возможность мгновенно и разом насладиться и удовольствием, которое приносит роскошь, и радостью, которую дарит любовь, и независимостью, которая приходит с властью. Но следом пришло пресыщение: увидев весь мир у своих ног, я зевнул, как сытый лев.
Для чего мне все эти миллионы, если благодаря им я каждый день буду получать прискорбное подтверждение человеческой низости? Ведь нравственную красоту вселенной золото уничтожит, она исчезнет, развеется как дым! Мною завладела непонятная грусть. Я тяжело сел на стул и, закрыв руками лицо, горько заплакал.
Спустя какое-то время дверь в мою комнату приоткрылась и в нее заглянула одетая в праздничный черный шелк мадам Маркес:
— Мы ждем вас ужинать, недоносок!
Отрешившись от печальных мыслей, я тут же сухо ответил:
— Я не буду ужинать.
— Как знаете!
В этот самый момент я услышал треск пускаемого фейерверка и вспомнил, что было воскресенье, а следовательно, предстоял бой быков. И тут яркая, сверкающая и сладостно влекущая к себе картина предстала моему воображению: я сижу в ложе и смотрю бой быков, потом ужинаю с шампанским, потом оргия, похожая на посвящение в таинство! Я подбежал к столу, набил карманы аккредитивами на Лондонский банк и стремительно, точно преследующий добычу коршун, бросился на улицу. Мимо ехала пустая коляска. Я остановил ее, громко крикнув:
— На бой быков!
— Десять тостанов, сеньор!
С презрением взглянул я на этот кусок организованной материи: что золотому колоссу это жалкое серебро! И, сунув руку в карман, отягощенный тысячами, извлек из него имеющийся у меня презренный металл — семьсот двадцать рейсов.
Извозчик хлестнул лошадь по крупу и, ворча, двинулся прочь.
— Но у меня аккредитивы, — пролепетал я. — Вот они! Лондонские, гамбургские…
— Не пойдет!
А наличными-то у меня было семьсот двадцать рейсов!.. И мечта моя — бой быков, ужин лорда и обнаженные андалуски — лопнула как мыльный пузырь, севший на острие гвоздя.
Я возненавидел человечество и преисполнился отвращения к денежным знакам. И пока я в нерешительности, с зажатыми во вспотевшей ладони семьюстами двадцатью рейсами, стоял на дороге, меня чуть не сбила ехавшая мимо коляска, полная празднично одетых людей.
С понурой головой и миллионами Ротшильда я вернулся в свою комнату на четвертом этаже, принес свои извинения мадам Маркес, принял из ее рук жесткий, как подметка, бифштекс и, позевывая, провел первую ночь миллионера в холодной одинокой постели, в то время как за стеной весельчак Коусейро — жалкий лейтенант с месячным жалованьем в пятнадцать тысяч рейсов — бренчал на гитаре «Фадо жаворонка».
Только на следующий день утром, бреясь перед зеркалом, я задумался над происхождением моих миллионов. Оно явно было сверхъестественным и подозрительным.
Но поскольку мой рационализм мешал мне приписать свое неожиданное обогащение прихоти или щедрости бога или дьявола — чисто схоластическим фикциям, а отрывочные знания позитивизма, которые составляют основу моего мировоззрения, не позволяли доискиваться первопричин и происхождения жизни на земле, то я вскоре же решил принять этот феномен как факт и великодушно использовать его. А потому стремительно понесся в Лондонско-Бразильский банк…
Там, кинув на конторку аккредитив английского банка на тысячу фунтов стерлингов, я с небрежностью произнес ласкающее слух слово:
— Золотом!
Кассир мягко предложил мне:
— Может, удобнее ассигнациями?
Я сухо повторил:
— Золотом!
И не торопясь наполнил пригоршнями монет карманы, однако всю тяжесть их почувствовал только на улице и вынужден был взять извозчика. Теперь у меня было такое ощущение, что я растолстел, обрюзг, золотой вкус был у меня во рту, золотая пыль на руках, золотом отливали и мелькавшие по сторонам стены домов, а в голове, точно в океане, с шумом перекатывались влекомые волнами золотые слитки.
Отдавшись во власть покачивавшейся, точно пьяница, коляски, я со скукой и тупостью пресытившегося человека смотрел на улицу и идущих по ней людей. Потом, сдвинув шляпу на затылок, выпятив живот и вытянув ноги, громко рыгнул, освобождая от избытка газов желудок богача…
По городу я кружил довольно долго, тупея от удовольствия быт набобом.
Внезапно, точно порыв ветра парусом, мною овладело желание тратить свое золото, сорить им без счета.
— Стой, скотина! — заорал я кучеру.
Лошади стали. Чуть прищуренным оком оглядел я все вокруг с намерением купить что-нибудь дорогое — драгоценность, достойную королевы или государственного деятеля, — однако ничего не увидел и поспешил в табачную лавку.
— Сигары! За тостан! За крузадо! Самых дорогих! За десять тостанов!
— Сколько? — услужливо спросил приказчик.
— Все, сколько есть! — грубо ответил я.