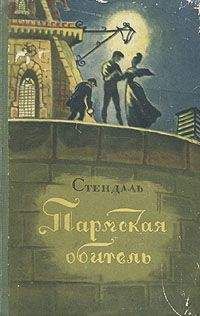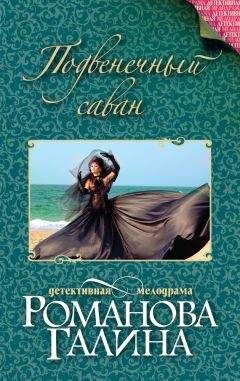Фредерик Стендаль - Федер
— Прошу вас, сударь, никогда больше не повторять тех слов, которые вы только что произнесли, или я внезапно заболею, — что, впрочем, и без того может случиться со мною в результате вашей дерзости, — и вы никогда больше меня не увидите, а портрет останется незаконченным. Я попрошу вас сделать мне одолжение и впредь обращаться ко мне лишь в случае крайней необходимости.
С этими словами Валентина поднялась с места и подошла к камину, чтобы позвонить горничной. Она хотела позвать г-на Буассо или Делангля, своего брата, с которыми могла бы заговорить о чем-нибудь, например, о небольшой загородной прогулке. Ее рука схватила уже шнур от звонка. «Нет, — подумала она, — они что-нибудь заметят по моим глазам». Она уже отказалась от мысли окончательно порвать с Федером.
Последний, со своей стороны, испытывал сильное искушение схватить мяч на лету. «Какой великолепный случай порвать с этой молодой женщиной! — думал он. — Вполне возможно, что я первый мужчина, посягнувший на ее добродетель. Если так, она будет вспоминать об этом незаконченном портрете всю свою жизнь». Как у всех пылких людей, мысли у Федера бежали быстро. Его охватило бурное искушение возобновить разговор о любви и заставить себя прогнать. Он уже искал фразу, которая могла бы оставить в сердце молодой женщины неизгладимое впечатление и сделаться для нее неиссякаемым источником переживаний. Следя за ней взглядом, когда она подходила к камину, он все еще продолжал мысленно искать свою выспренную фразу и наблюдал, решится ли она позвонить. Она слегка повернулась, и он увидел ее в профиль; до сих пор он привык видеть ее лицо в анфас или в три четверти.
«Какая восхитительно тонкая линия носа! — подсказал Федеру его глаз художника. — И какую изумительную способность к безграничной любви изобличает это лицо! — тотчас добавило его сердце влюбленного. — Разумеется, моя фраза оставит в ней длительное воспоминание, но я потеряю возможность ее видеть, и, как знать, может быть, послезавтра это станет для меня источником большого горя. В таком случае, — решил он, — надо припасть к ногам ее тщеславия. Быть может, она считает, что я отношусь к ней чересчур легко, если иду на риск получить отказ от дома».
— Я в отчаянии, сударыня, и от глубины души, смиреннейшим образом прошу у вас прощения за свою нескромность.
При этих словах Валентина быстро обернулась к нему, и постепенно на ее лице проступило выражение живейшей радости: она была освобождена от ужасавшей ее необходимости прогнать Федера или, по меньшей мере, разговаривать с ним отныне лишь в присутствии г-на Буассо или горничной. «С какой быстротой, — думал Федер, — на лице ее отражается все, что происходит в ее сердце! Это отнюдь не та провинциальная глупость, которой я ожидал. Мои извинения по адресу тщеславия имеют успех; удвоим же дозу».
— Сударыня, — вскричал он с видом самого искреннего раскаяния, — если бы я не боялся, что вы можете ложно истолковать мой жест и принять его за дерзость, от которой так далеко мое трепещущее сердце, я бросился бы к вашим ногам, чтобы вымолить прощение за вырвавшиеся у меня чудовищные слова. Мое внимание было целиком поглощено работой, и, беседуя с вами, я лишь думал вслух. Бессознательно я позволил сорваться с моих губ чувству, проявления которого запрещены мне. Умоляю, благоволите забыть слова, которые я никогда не должен был произносить. Еще раз я смиренно прошу у вас прощения.
Мы уже сказали, что у Валентины не было никакого житейского опыта. Сверх того, она, на свое несчастье, обладала свойством, делающим женщину столь обворожительной: ее глаза и очертания губ мгновенно отражали все переживания ее души. Так, например, в эту минуту лицо ее выразило всю радость примирения. Этот странный факт отнюдь не ускользнул от опытного взгляда Федера. Его радость была безгранична. «Я признался ей в любви, но это еще не все, — думал он. — Она любит меня или, во всяком случае, я необходим для ее счастья, как друг, который утешал бы ее и помогал сносить грубость мужа. Значит, она замечает эту грубость, и это открытие имеет огромное значение. И, значит, — подумал он с живейшей радостью, — мне не приходится презирать ее за чудовищную глупость и грубость, которые возмущают меня в этом провинциальном колоссе. В ней нет смешных черт, порожденных в ее муже сознанием богатства и тем чувством превосходства, с каким он относится к окружающим, хотя и не имеет на то никакого права. Моя радость беспредельна, и я должен использовать это».
— Сударыня, — сказал Федер Валентине, — я был бы вне себя от счастья, если бы мог питать хоть малейшую надежду на то, что вы согласитесь забыть чудовищную глупость, которая побудила меня думать вслух.
Употребив последнее выражение, Федер чересчур понадеялся на провинциальную простоту своей модели. Он ошибся. Валентина была не лишена мужества. Она нахмурила брови и сказала ему довольно твердо:
— Прошу вас, сударь, прекратим этот разговор.
IV
Федер тотчас повиновался.
— Будьте добры, сударыня, подвиньтесь чуть правее. Положите немного ближе ко мне руку, что опирается на кресло. Не наклоняйте голову так низко. Вы несколько изменили позу, в которой был начат портрет.
Поза была исправлена Валентиной не без некоторой холодности, после чего влюбленные постепенно погрузились в восхитительное молчание, лишь изредка прерываемое словами Федера:
— Прошу вас, сударыня, взгляните на меня.
Федер без колебаний принял приглашение г-на Буассо на обед. Он принял также приглашение в ложу, но, улучив момент, сказал Деланглю:
— В Академии должно вскоре освободиться место, и я имел слабость рассчитывать на него. Мой приятель позаботился обо мне и поселил своего человека в одной из комнат седьмого этажа того дома, где третий этаж занимает больной член Академии. Так вот, я не могу пожаловаться на академика: сегодня он совсем плох, — но двое его коллег, которые прежде обещали свои голоса моему покровителю, по-видимому, склоняются в пользу нашего соперника, так как он оказался дальним родственником назначенного вчера министра финансов.
— Какая гнусность! — с гневом вскричал Делангль своим зычным голосом.
«Почему же гнусность, дурень ты этакий? — подумал Федер. — Зато теперь я могу мечтать и молчать, сколько мне вздумается: мое грустное настроение будет отнесено за счет упущенного места в Академии». И он снова отдался беспредельному счастью любоваться Валентиной.
Минуту спустя Федер услышал, как Буассо с оттенком самой смешной зависти в голосе сказал шурину:
— Черт побери, сделаться кавалером ордена Почетного Легиона и членом Академии в один и тот же год! Да, этот молодчик не теряет времени!
Вице-президент коммерческого трибунала думал, что говорит шепотом, но размышления провинциального колосса не были потеряны для соседних лож. Через две-три минуты он добавил:
— Правда, портреты, написанные рукой члена Академии, принесут больше чести тем, кому они будут принадлежать.
Валентина говорила не больше Федера. Ее взгляд и голос выдавали глубокую внутреннюю тревогу. Несмотря на энергичные опровержения, так быстро последовавшие за оскорбительным признанием, Валентина со вчерашнего дня не переставала повторять себе следующие, восхищавшие ее доводы: «Он сказал, что любит меня, не из самомнения и, уж конечно, не из дерзости; бедняжка сказал это лишь потому, что это правда». Но тут в ее ушах снова начинали звучать столь решительные опровержения художника, и стремление разгадать истинный смысл его слов целиком поглощало молодую женщину.
Сердце ее учащенно билось; легкие сомнения, еще не совсем ее покинувшие, мешали ей возмутиться той ужасной вещью, которую в провинции называют объяснением в любви. И вот Валентине страстно захотелось узнать историю Федера. Она припомнила, что, когда брат заговорил с ней в первый раз о портрете, он сказал так: «Молодой художник с пирамидальным талантом[10]. Пользуется огромнейшим успехом в Опере!» Однако она не решалась снова навести Делангля на эту тему и попросить его рассказать еще какие-нибудь подробности. Валентина все время искала теперь общества брата. Без конца обдумывая, каким бы способом заставить его заговорить об успехах молодого художника, она научилась хитрить. Г-н Буассо умирал от желания взять на два месяца ложу в Опере. Если бы это исполнилось, он устроил бы в пятницу парадный обед для всех своих земляков, находившихся в Париже, и в восемь часов, прощаясь с ними, с гордостью заявил бы: «У меня назначено деловое свидание в моей ложе в Опере». Валентина, внезапно воспылавшая страстью к опере, сказала мужу:
— Ничто так меня не раздражает, как нелепый покровительственный тон, который усвоили по отношению к нам особы, имеющие в Париже кое-какие средства. Мы родились в двухстах лье от столицы, но решительно ни в чем им не уступаем. По-моему, существует лишь два способа занять место среди этой дерзкой аристократии: либо надо купить имение в местности, где находятся несколько красивых дач главных сборщиков податей и богатых банкиров, либо же, если не найдется такого имения, абонировать, по крайней мере, ложу в Опере. По-моему, ничто так нас не унижает, как необходимость менять ложу на каждом спектакле.