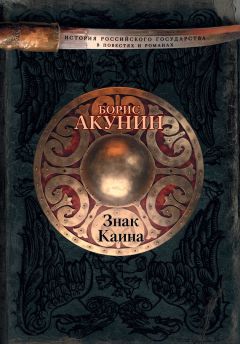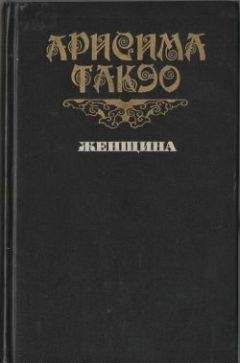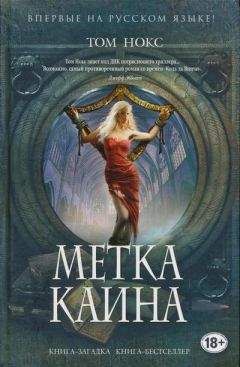Такэо Арисима - Потомок Каина
Наконец он добрался до усадьбы Мацукава. До сих пор в его представлении самым большим домом была контора фермы, и здесь он ожидал увидеть нечто подобное, но огромный особняк, перед которым он стоял, ошеломил его своим великолепием.
У парадного входа он сбросил сандалии, сконфуженно вытащил из-за пояса полотенце и тщательно вытер ноги. Его провели во внутренние комнаты. Если не считать спокойной поверхности воды, он никогда ещё не видел ничего более гладкого и сверкающего, чем пол, по которому он ступал, ощущая босыми ногами неприятный холодок. Красиво одетая служанка раздвинула фусума[12], и в нос Нинъэмону ударил резкий неприятный запах, даже дыхание перехватило. В комнатах было жарко, как летом.
Великолепные толстые циновки были устланы шкурами зверей. На шкуре белого медведя, недалеко от сёдзи, возвышалась гора подушек, на которых, грея руки над большим хибати, восседал помещик, закутавшийся в ватный домашний халат из плотной ткани, наполовину шёлковой, наполовину бумажной. Увидев Нинъэмона, он сердито нахмурился и отвернулся к алькову. Нинъэмон затрепетал под грозным взглядом помещика и робко остановился в дверях. Помещик снова посмотрел на Нинъэмона. Напуганный его гневом, Нинъэмон, неуклюже шлёпая босыми ногами по циновке, приблизился и, весь сжавшись, чтобы казаться как можно меньше, сел перед ним.
— Ты зачем явился? — раздался зычный голос Мацукава, от которого Нинъэмон ещё сильнее съёжился, как от удара, невольно поднял голову и взглянул на помещика. Тот держал во рту большую чёрную сигару, спокойно выпуская кольца голубого дыма. Снова ноздри Нинъэмона защекотал тяжёлый, неприятный запах.
Нинъэмон был словно в бреду и плохо понимал, что говорит. Вначале помещик переспрашивал его и что-то уточнял, но вскоре потерял терпение и заорал на него:
— Не уплатил ни гроша арендной платы и ещё посмел показаться мне на глаза? Когда научишься быть почтительным, тогда и приходи. Болван!
Стены, казалось, задрожали от оглушительного хохота помещика.
При каждом его раскате Нинъэмон втягивал голову в плечи, словно защищаясь от ударов. Наконец он поднялся и ушёл, даже не поклонившись. Лицо его пылало от жары, стоявшей в комнате, и от злости.
Обескураженный и разбитый вернулся Нинъэмон в свою лачугу. Ему показалось, что над всей фермой протянулась тяжёлая, огромная рука помещика. «Болван!» — вновь прозвучало в его ушах. «Хозяин живёт не так, как живу я, — думал Нинъэмон. — Он совсем другой человек. Но если хозяин человек, значит, я не человек. Если же я человек, тогда хозяин — не человек». Мрачные думы одолели Нинъэмона.
Жена его, закутанная в лохмотья, растрёпанная, с безучастным видом сидела перед дымящим очагом, вытаращив глаза и разинув рот. На коленях у неё уже не было малыша. А за стенами хижины сыпал и сыпал снег.
К ночи начался буран. Утром Нинъэмон обнаружил, что вокруг хижины намело по пояс снегу. Резкий, пронизывающий ветер с воем и свистом налетал на лачугу, сотрясая её ветхие стены. В редкие мгновенья затишья всё вокруг наполнялось гнетущей, унылой тишиной.
Нинъэмону хотелось выпить, но сакэ не было ни капли. Наконец, продолжая о чём-то сосредоточенно размышлять, он решительно поднялся, взял топор и подошёл к лошади. Животное доверчиво потянулось к нему мордой. Нинъэмон с каменным лицом что-то пробормотал, погладил лошадь менаду глаз. Потом вдруг откинулся назад, взмахнул топором и с силой опустил его на лоб лошади. Глухой звук удара эхом отозвался в его душе. Не издав ни звука, лошадь упала на передние ноги, потом тяжело повалилась на бок. Задние ноги её задёргались в предсмертных судорогах, остекленевшие глаза застыли.
— Страх какой! Что ты делаешь! Жалко ведь! — обернулась жена, стиравшая в это время какие-то тряпки. Она смотрела на мужа расширившимися от ужаса глазами.
— Замолчи! А то получишь то же самое! — хриплым голосом рявкнул Нинъэмон — так убийца грозит свидетелям.
Но как внезапно стихает буря, так вдруг угасло возбуждение в сердцах супругов. Нинъэмон с окровавленным топором в опущенной руке и жена его, прижимавшая к груди грязную, как половик, скатерть, стояли, смущённо глядя друг на друга.
— Пойди сюда, — прохрипел Нинъэмон, слегка качнув топором. Он стал сдирать с лошади шкуру, жена ему помогала. Запах свежей крови наполнил лачугу. Вскоре шкура была снята, осталась нетронутой лишь голова с вывалившимся толстым языком. На соломе, вызывая невольный ужас, лежала красная туша с белыми узорами сухожилий. Нинъэмон свернул шкуру в трубку и связал соломенной верёвкой.
Он велел жене прибрать хижину. Затем она насыпала в два узла, большой и маленький, зерна, ровно столько, сколько они могли бы унести на спине. Догадавшись, что муж решил уйти отсюда, и представив себе долгую и тяжёлую бродячую жизнь, жена готова была разрыдаться, но страх перед мужем заставил её молча глотать слёзы. Нинъэмон, стоя неподвижно посреди хижины, оглядывал её, словно производил какие-то измерения. Муж и жена обули сандалии. Жена повязалась платком, и Нинъэмон помог ей взвалить на спину её ношу. Тут жена не выдержала и, вздрагивая всем телом, разрыдалась. Вопреки ожиданиям, Нинъэмон не стал её бранить. Он легко поднял свой тяжёлый мешок, забросил его за спину, а сверху положил ещё лошадиную шкуру. Словно сговорившись, они ещё раз обвели взглядом убогое своё жилище.
Едва они открыли дверь, ветер со снегом так яростно ударил им в лицо, что пришлось нагнуть голову. Под тяжестью ноши они проваливались по пояс в ещё не затвердевший снег. Велев жене подождать, Нинъэмон вернулся в хижину. Не снимая поклажи, он бросил один конец соломенной верёвки в очаг, другой — прикрепил к стене, а поверх верёвки насыпал мелко нарубленную сухую солому.
Земля и небо как будто соединились воедино. Порывистый ветер подхватывал с сугробов вихри снега и бросал его, как тучу стрел, в лицо путникам. В снежной пелене то появлялась, то исчезала хижина Сато и роща возле неё. Нинъэмон с женой шли навстречу ветру, и вскоре одежда их побелела, а лица от уколов снежных игл стали тёмно-красными и окоченели. То и дело смахивая с бровей снег, они прокладывали путь через сугробы.
Вот и дорога, она стала похожа на белую снежную ленту. Нинъэмон шёл впереди, очень осторожно, чтобы не провалиться в сугроб. Сгорбившись под тяжестью ноши, муж и жена медленно, спотыкаясь и скользя на каждом шагу, пробирались вперёд. Проходя мимо холма, где было кладбище, жена молитвенно сложила руки, поклонилась и запричитала пронзительным голосом. Когда они пришли сюда, у них был ребёнок, была лошадь. Но судьба и это отняла у них.
Остались позади последние домишки, вокруг было пустынно и голо. Лишь кое-где торчали, словно копья, сухие ветки, прогнувшиеся под тяжестью снега. То согнутые, то сломанные бушевавшим ветром, стволы и ветви деревьев перепутались, как космы ведьмы.
Мужчина и женщина, сгибаясь под тяжестью узлов, устало и медленно тащились по направлению к Куттяну.
Впереди показалась пихтовая роща, выделявшаяся на фоне оголённых деревьев своей вечной угрюмо-тёмной зеленью. Прямые стволы пихт, устремившись в небо, непреодолимой преградой возвышались на пути злобно ревущего ветра. Мужчина и женщина приблизились к роще, крохотные, как муравьи, на фоне огромных пихт, и вскоре лес поглотил их.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Передо мной двенадцать книг небольшого формата — посмертное издание произведений Такэо Арисима. В Японии, где плодовитость писателя подразумевается как нечто само собой разумеющееся, считается, что Арисима написал совсем мало. Действительно немного по сравнению с собраниями сочинений Нацумэ Сосэки или Симадзаки Тосона, насчитывающими по нескольку десятков томов. Да это и понятно, — говорят японские литературоведы, — ведь творческая деятельность Арисима продолжалась всего четырнадцать лет. Но в конечном итоге дело, видимо, не в количестве томов.
Известен такой случай из литературной жизни Японии. Нацумэ Сосэки, признанный мэтр японской литературы конца прошлого — начала этого века, прочитав первую новеллу молодого начинающего писателя Рюноскэ Акутагава «Нос», сказал, что, даже если он ничего больше не создаст, прочное место в японской литературе ему обеспечено. Думается, то же можно сказать о «Женщине» и «Потомке Каина»[13] Арисима. Эти две вещи предельно точно и выразительно характеризуют творчество писателя. Более того, они характерны для японской литературы начала нынешнего века, обнажают большие, глубокие пласты жизни Японии той поры. Я не хочу сказать, что остальные произведения писателя слабы и маловыразительны. Отнюдь нет. Но в творчестве каждого писателя существует вершина. Иногда это одно произведение, иногда — несколько. На их фоне подчас тускнеют другие его творения. Но, может быть, тем рельефнее выделяется творческий профиль писателя.